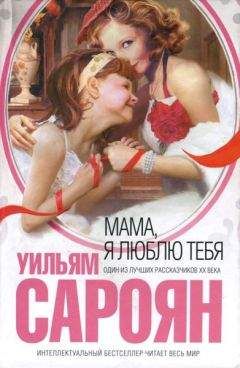Юрий Кузнецов - Стихотворения и поэмы
МЕДОВЫЕ ПЧЕЛЫ
Каждое утро на луг прямиком
Пчелы из улья летят с ветерком,
Чтобы умыться росой-хрусталем,
Серые пчелы и желтые пчелы.
Пчелы пытают цветок-однолюб,
Жадно сосут дивный мед его губ,
Может быть, труд их покажется груб;
Та улетит, прилетает другая.
Время свиданья идет на закат,
Пчел вереницы обратно летят,
Больно расстаться, но травы молчат,
Боль тишиною объята.
Утром печаль отпускает цветы,
Снова они и светлы, и чисты,
Соком и свежестью всклень налиты.
Так и летают до осени голой
Серые пчелы и желтые пчелы.
ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ
Тропы славы идут через город.
М.ИсмаилДа, это чувство мне не скрыть уже,
Как сказано друзьями справедливо.
Но чувство к городу в моей душе
Стоит лицом к лицу со сжатой нивой.
Да, гложет зависть и меня порой.
Портрет поэта — что он выражает?
Тут он рябит в газете городской,
А там вода арыка отражает.
Все камни детства прокляли меня,
Посаженные мной трещат дубравы.
Зачем же среди суетного дня
Мне кружит голову желанье славы?
Перевел с азербайджанского Юрий КУЗНЕЦОВ
Мамед Исмаил.
Легенда о круге
Вернулся из странствий Бахлул Даненде[2]
И палкою круг начертил на воде.
И так произнёс: "Ни один человек
Из этого круга не выйдет вовек".
"Он лжёт! - как один, храбрецы поднялись. -
Мы выйдем из круга!" - и в путь подались.
Но тайна мерцала, как круг на воде,
И знака не подал Бахлул Даненде.
Кидал человека скитальческий дух,
Но кровь в его теле вершила свой круг.
То вера вела на незримом пути,
То дьявол толкал за черту перейти.
Земными путями идя по прямой,
Они попадали обратно домой.
Небесной дорогой идя до звезды,
Они попадали в свои же следы.
За месяцем месяц, за годом шёл год,
Бурлил нескончаемый водоворот.
Не зная начала, не видя конца,
Не вышел никто из земного кольца.
Да вас ли покинуть, луга и поля,
Магнитное поле - родная земля,
Где тайна мерцает, как круг на воде,
Который оставил Бахлул Даненде?!
(Мамед Исмаил. Перевод с азербайджанского Ю.П. Кузнецова)
Ю. Марцинкявичюс.
О Родине желая говорить...
О Родине желая говорить...
сперва погибшим высказаться дайте.
Они дыханьем наполняют наши
знамёна и незримыми руками
благословляют сны, мечты и труд:
глазами звёзд они глядят повсюду,
словами колосятся; вечно живы,
как щебет птиц, благоуханье вишни,
улыбка женщины, и смех младенца,
и правая рука, в которой сжаты
все времена Отчизны дорогой.
Давайте говорить одну лишь правду,
чтоб нас могли погибшие понять.
(Юстинас Марцинкявичюс,
пер. с литовского Юрия Кузнецова)
Поэмы и циклы стихов
Золотая гора
Не мята пахла под горой
И не роса легла,
Приснился родине герой.
Душа его спала.
Когда душа в семнадцать лет
Проснулась на заре,
То принесла ему извет
О золотой горе:
— На той горе небесный дом
И мастера живут.
Они пируют за столом,
Они тебя зовут.
Давно он этого желал —
И кинулся, как зверь.
— Иду! — он весело сказал.
— Куда? — спросила дверь. —
Не оставляй очаг и стол.
Не уходи отсель,
Куда незримо ты вошел,
Не открывая дверь.
За мною скорбь, любовь и смерть,
И мира не обнять.
Не воздыми руки на дверь,
Не оттолкни, как мать.
— Иду! — сказал он вопреки
И к выходу шагнул.
Не поднял он своей руки,
Ногою оттолкнул.
Косым лучом насквозь прошел
Простор и пустоту.
В тени от облака нашел
Тяжелую плиту.
Холодный мох с плиты соскреб,
С морщин седых стихов:
«Направо смерть, налево скорбь,
А супротив любовь».
— Хочу! — он слово обронил. —
Посильное поднять,
Тремя путями этот мир
Рассечь или обнять.
Стопа направо повела,
И шёл он триста дней.
Река забвения легла,
Он вдоль пошёл по ней.
Река без тени и следа,
Без брода и мостов —
Не отражала никогда
Небес и облаков.
И червяка он повстречал
И наступил ногой.
— Куда ползёшь? — Тот отвечал:
— Я червь могильный твой.
На счастье взял он червяка
И пронизал крючком.
Закинул, Мертвая река
Ударила ключом.
И леса взвизгнула в ответ
От тяги непростой.
Но он извлёк на этот свет,
Увы, крючок пустой.
Не Сатана сорвал ли злость?
В руке крючок стальной
Зашевелился и пополз
И скрылся под землей.
Он у реки хотел спросить,
Кого он встретит впредь.
Но та успела позабыть
И жизнь его, и смерть.
Он вспять пошёл и мох соскреб
С морщин седых стихов
И прочитал: «Налево скорбь,
А супротив любовь».
Стопа налево повела,
И шел шестьсот он дней.
Долина скорби пролегла,
Он вширь пошел по ней.
Сухой старик пред ним возник,
Согбенный, как вопрос.
— Чего хватился ты, старик,
Поведай, что стряслось?
— Когда-то был мой дух высок
И страстью одержим.
Мне хлеба кинули кусок —
Нагнулся я за ним.
Моё лицо не знает звезд,
Конца и цели — путь.
Мой человеческий вопрос
Тебе не разогнуть.
А на пути уже блистал
Великий океан,
Где сахар с берега бросал
Кусками мальчуган.
И вопросил он, подойдя,
От брызг и соли пьян:
— Ты что здесь делаешь, дитя?
— Меняю океан.
Безмерный подвиг или труд
Прости ему, Отец,
Пока души не изведут
Сомненья и свинец.
Дай мысли — дрожь, павлину — хвост,
А совершенству — путь…
Он повстречал повозку слёз —
И не успел свернуть.
И намоталась тень его
На спицы колеса.
И тень рвануло от него,
А небо — от лица.
Поволокло за колесом
По стороне чужой.
И изменился он лицом,
И восскорбел душой.
На повороте роковом
Далёкого пути
Отсек он тень свою ножом:
— О, верная, прости!
Он тенью заплатил за скорбь
Детей и стариков.
Подался вспять и мох соскреб:
«А супротив любовь».
Но усомнился он душой
И руку опустил
На славы камень межевой
И с места своротил.
Открылся чистым небесам
Тугой клубок червей.
И не поверил он глазам
И дерзости своей.
Из-под земли раздался вздох:
— Иди, куда идёшь.
Я сам запутал свой клубок,
И ты его не трожь.
Ты всюду есть, а я нигде,
Но мы в одном кольце.
Ты отражен в любой воде,
А я — в твоем лице.
Душа без имени скорбит.
Мне холодно. Накрой. —
Он молвил: — Небом я накрыт,
А ты моей стопой.
Дней девятьсот стопа вела,
Пыль супротив он мел.
Глухая ночь на мир легла.
Он наугад пошёл.
Так ходит запад на восток,
И путь необратим.
От мысли он огонь возжег.
Возникла тень пред ним.
— Ты что здесь делаешь? — Люблю. —
И села у огня.
— Скажи, любовь, в каком краю
Застигла ночь меня?
— На полпути к большой горе,
Где плачут и поют.
На полпути к большой горе,
Но там тебя не ждут.
В тумане дрогнувшей стопе
Опоры не найти.
Закружат голову тебе
Окольные пути.
— Иду! — он весело сказал
И напролом пошёл.
Открылась даль его глазам —
Он на гору взошел.
Не подвела его стопа,
Летучая, как дым.
Непосвященная толпа
Восстала перед ним.
Толклись различно у ворот
Певцы своей узды,
И шифровальщики пустот,
И общих мест дрозды.
Мелькнул в толпе воздушный Блок,
Что Русь назвал женой
И лучше выдумать не мог
В раздумье над страной.
Незримый сторож ограждал
Странноприимный дом.
Непосвященных отражал
То взглядом, то пинком.
Но отступил пред ним старик.
Шла пропасть по пятам.
— Куда? А мы? — раздался крик.
Но он уже был там.
Увы! Навеки занемог
Торжественный глагол.
И дым забвенья заволок
Высокий царский стол.
Где пил Гомер, где пил Софокл,
Где мрачный Дант алкал,
Где Пушкин отхлебнул глоток,
Но больше расплескал.
Он слил в одну из разных чаш
Осадок золотой.
— Ударил поздно звёздный час,
Но всё-таки он мой!
Он пил в глубокой тишине
За старых мастеров.
Он пил в глубокой тишине
За верную любовь.
Она откликнулась, как медь,
Печальна и нежна:
— Тому, кому не умереть,
Подруга не нужна.
На высоте твой звёздный час,
А мой — на глубине.
И глубина ещё не раз
Напомнит обо мне.
1974