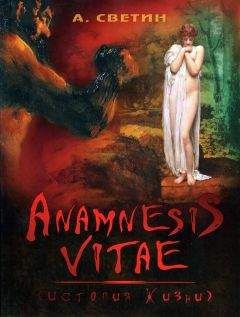Ольга Кучкина - Численник
Случай Набокова
Янтарь желтеет на асфальте,
темнеют сферы площадей,
октябрь в Москве, октябрь в Фиальте,
сезон падения дождей.
Что сердце жгло, в висок стучало —
припомним это ремесло, —
законом времени умчало
и пылью ветром разнесло.
Невозвратимая Россия,
в неверных сменах октябрей,
ты под нормальную косила
вся, от холопов до царей.
И чахли те, кто уезжали,
и гибли, кто не уезжал,
скрипели ржавые скрижали,
башмак эпохи сильно жал.
Один Набоков, странный гений,
вдали отчизны не зачах,
пред ней вставая на колени
во снах ночных, а не в речах.
За бабочками и словами
охотник страстный, прочих клял,
о, отвяжись, я умоляю,
он образ милый умолял.
Летят прозрачные машины,
янтарный лист примят стеклом,
блестят зонты, носы и спины
у прошлой жизни за углом.
Прощай, немыслимый Набоков,
природный баловень себя,
певец порогов и пороков,
надменный счетчик бытия.
Как прошлогодний снег в Фиальте,
заплаканный апрель в Москве,
так фиолетов цвет фиалки,
в пыли взошедшей по весне.
«Из дыма и света…»
Из дыма и света
и канатов прочнее стали
состоит любовь —
во сне мне прошептали.
Мне приснилось это,
пока все еще спали,
и кто-то ударил
меня в глаз, а не в бровь.
С зажмуренным глазом,
ожидая рассвета,
цепляла на крючки это
соединение слов:
из дыма и света,
из дыма и света…
Что из дыма и света?
Из дыма и света —
это и весь улов.
«Пение в доме, где нету рояля…»
Наташе
Пение в доме, где нету рояля,
солнечных пятен и смеха дрожанье,
лица, как будто со старой эмали,
и всех троих меж собой обожанье.
Где оно? Вот оно, только что было,
минет неделя, другая, полгода…
я запишу, пока не позабыла,
всякая может случиться погода.
Снегом засыплет, верст намотает,
сменится век веком в дерзком начале.
Многое в дымке, конечно, истает.
Но эти лица со старой эмали…
«Моя последняя любовь…»
Моя последняя любовь
сияет мне из каждой щели,
тьмы отступают еле-еле
и свет обрушиться готов.
В таинственный нестрашный час
душа звучит, как мандолина,
и нотный лист пред ней предлинный,
и Бог играет про запас,
и тайной музыкою сфер
окутав праздничное ложе,
уносит нас туда, о Боже,
где ни греха, ни свар, ни скверн.
Но крик, но боль, но аз воздам!..
Мир злом наполнен, как проказой.
И взглядом девочки безглазой
как будто бритвой по глазам.
Ураган в Москве
Газеты носились по улицам,
полотнища с тросов рвались,
сотрудникам и сотрудницам
не улыбалась жизнь.
Что было за годы нажито,
летело в тартарары,
деревья падали заживо,
омертвели дворы.
Небо темнело густо,
надвигался ливень стеной,
и было под сердцем пусто,
словно перед войной.
Возле консерватории
публика впала в шквал.
Ветер с ветром истории
всячески совпадал.
В метро
От барышень и кавалеров,
от сильных милиционеров,
от слабых пенсионеров
до чиновников разных размеров,
от надушенных дам полусвета,
от Одиллии и до Одетты
районного, типа, балета,
от жестоких цыган-попрошаек,
от влетевших мальчишеских шаек,
от впорхнувших девических стаек,
живописно расписанных маек,
свитеров, пиджаков, кардиганов,
от тихонь и от хулиганов,
простодушных и хитрованов,
академиков и профанов,
от бездельников и работяг,
от подельников и доходяг
пахнет потом.
И это она, дорогая до боли страна.
«Мой круг, мой друг, мой брат, мой ад…»
Мой круг, мой друг, мой брат, мой ад —
твой ад и круг. И крут маршрут.
Наш смутен век и горек яд.
О человек, тебя сожрут!
«Вороны тропу переходят, как жирные куры…»
Вороны тропу переходят, как жирные куры,
небрежно и важно, как группа товарищей в шляпах,
небрежности с важностью вид придают синекуры,
ни голод не мучит когда и ни падали запах.
Сменилась эпоха, и сытость под знаком вопроса,
летят пух и перья, вальяжные прежде фигуры
на падаль бросаются с жадностью, словно на просо,
и – в шляпах – ведут себя точно, как глупые куры.
«Июль, жара да пляска комаров…»
Июль, жара да пляска комаров —
в который раз цепляющие знаки
теченья жизни. Дальний лай собаки
и дымный след отечества костров.
Шестидесятник
Как это написать и как пересказать —
печаль и торжество,
ничтожество и пошлость,
Вы были муравей и были стрекоза,
канава и престол
предоставляли площадь.
Один и одинок
среди тупой толпы,
с ненужной бородой,
приклеенной к исходу,
что мог и что не мог,
исполнил и запил,
природой и нуждой
прикованный к народу.
Один, как Божий перст,
указанный перстом,
большою суетой
убитый из рогатки,
скобленый палимпсест,
читаемый с трудом,
тисненый, золотой,
сплошные опечатки.
Последний выход
Я хотела тот день провести, как другие,
разделить это общее горе со всеми,
и удары лопатой о камень глухие
сочленились с ударами сердца. По теме.
Эта тема – прощанье. Сейчас и навеки.
Отлетела душа от ненужного тела.
О, какие мы слабые, человеки,
и какая в нем сила играла и пела!
На просвет всенародный, на ощупь прозрачный,
всем и каждому свойский, до дна всеми спитый,
русский, близкий, геройский, отпетый, барачный,
одинокий как перст, как священник убитый.
Деревянная сцена, и он в деревянном,
на высокой, нет выше, единственной сцене,
переполненный зал, и – с безмолвным рыданьем
люд, готовый из кресел упасть на колени.
Стрелок времени неотменима погоня,
завиваются вечности черные ленты,
утопая в цветах, он поплыл на ладонях —
и внезапно обрушились аплодисменты.
Так же бурей оваций прощались с Феллини…
«Было наличье его на земле…»
Было наличье его на земле
весомо и грубо представлено,
жил, пил, любил, умирал на войне,
объявленной и необъявленной.
Был неврастеником, деспотом был,
дни близким, как мог, укорачивал.
Все сделал стихами. Не сделал – забыл.
Что вспомнил – переиначивал.
Контакты с эпохой, с нищим, с женой
фиксировал полупомешанно.
Кого-то просил: ну еще по одной —
по строке, по рюмке, по женщине.
Он в славу вошел, скандалист и брюзга,
товарищ своим товарищам.
А когда его загрызла тоска,
бритвой себя распорол по швам…
Помолитесь за него.
«Я мальчик Даль, ненадолго, на взгляд…»
Я мальчик Даль, ненадолго, на взгляд
в зеркальный сумрак посредине ночи,
когда воображение морочит
и память разливает сладкий яд.
В дали по Далю бьет прицельный дождь
и снегопад лицо слезами мажет,
и ни один свидетель не расскажет,
как заходил случайный этот гость.
На кухне, в полумраке и смеясь,
пыталась отпоить горячим супом,
послушно ел, сбегала боль по скулам,
артист, ребенок, пьяница и князь.
Любовь переливалась через край,
ее хлебали ложкой осторожно,
тогда казалось, все еще возможно,
шептал, хмельной: дружок, не отбирай…
Я не придумала и доли, пустяка.
Происходившее на площади Восстанья
все так и было, и смешная тайна
покрыла выходку смешного чудака.
То были пробы, пробы без конца,
развоплощений смесь и воплощений.
Он умер вдруг. Несчастный русский гений,
с свинцом на сердце, сборной из свинца.
Внезапный взгляд сто тысяч лет спустя,
внезапный морок в зеркале старинном,
я мальчик Даль, и в обмороке длинном
дышать не смею, резвое дитя.
Хотите роль попробовать на зуб —
я мальчик Даль, я это вам устрою,
о бедной Лизе думаю с тоскою,
хлебаю, обжигаясь, тот же суп.
«Бедный факел. Рыбачкина дочка…»
Елене Майоровой
Бедный факел. Рыбачкина дочка.
Божья радость. Актриса наотмашь.
Белый ангел. Петля от крючочка.
А крючок или пламя – не помнишь.
Как сгорают в любви и в искусстве,
так сгорела красавица Ленка.
Божий дар. Ломтик славы надкусанный.
Голенастая, в пепле, коленка.
«Этим флейтовым, колокольчиковым…»
Елене Камбуровой
Этим флейтовым, колокольчиковым,
фиолетовым, нежно игольчатым,
родниковым, прозрачным, чистейшим,
мальчиковым и августейшим,
цирковым, пролетарским, бритвенным,
роковым, гусарским, молитвенным,
золотым, молодым, оплаченным,
проливным, площадным, потраченным,
мотовским, подземельным, стильным,
колдовским, запредельным, сильным,
птичьим, дуриковым, окаянным,
покаянным и океанным,
этим голосом иссушает,
создает, воздает и прощает.
Низким виолончельным…
высоким венчальным…
«Вчера пополудни подруга-поэтка…»