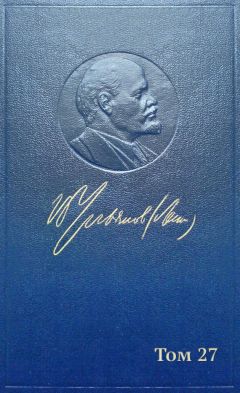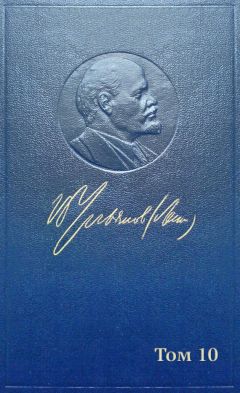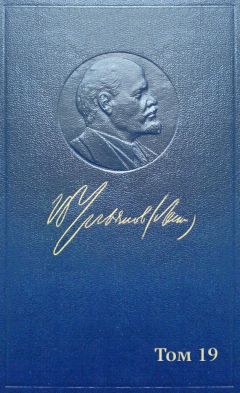Сергей Есенин - Том 6. Письма
Вытегра
Олонецкой губ.
Николаю Алексеевичу
Клюеву
——————
Москва. Б. Никитская
15. Книжный магазин
худ. слова. С. А. Есенин
Бениславской Г. А., 8 мая 1922
Г. А. БЕНИСЛАВСКОЙ*
8 мая 1922 г. Москва
Милая Галя! Тысячу приветов Вам! Будьте добры, дайте т. Сахарову вариант шестой главы.* Любящий Вас С. Есенин. 1922, 8 мая.
Шнейдеру И. И., 21 июня 1922
И. И. ШНЕЙДЕРУ*
21 июня 1922 г. Висбаден
Висбаден. Июнь 21. 922.
Милый Илья Ильич! Привет Вам и целование.
Простите, что так долго не писал Вам, берлинская атмосфера меня издергала вконец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу ногу. Лечусь в Висбадене. Пить перестал и начинаю работать.*
Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал и денег. Пока получил только сто тысяч с лишним марок, между тем в перспективе около 400.* У Изадоры дела ужасны.* В Берлине адвокат дом ее продал и заплатил ей всего 90 тыс<яч> марок. Такая же история может получиться и в Париже. Имущество ее: библиотека и мебель расхищены, на деньги в банке наложен арест.
Сейчас туда она отправила спешно одного ей близкого человека. Знаменитый Поль Бонкур не только в чем-нибудь помог ей, но даже отказался дать подпись для визы в Париж.* Таковы ее дела… Она же как ни в чем не бывало скачет на автомобиле, то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии — истерика.
Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер.* Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют внутри они. Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы.
Нужен поход на Европу.* — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Однако серьезные мысли в этом письме мне сейчас не к лицу. Перехожу к делу. Ради Бога, отыщите мою сестру через магазин* (оставьте ей письмо) и устройте ей получить деньги, по этому чеку в «Ара*». Она, вероятно, очень нуждается. Чек для Ирмы только пробный. Когда мы узнаем, что вы получили его, тогда Изадора пошлет столько, сколько надо.
Если сестры моей нет в Москве, то напишите ей письмо и передайте Мариенгофу, пусть он отошлет его ей.
Кроме того, когда Вы поедете в Лондон,* Вы позовите ее к себе и запишите ее точный адрес, по которому можно было бы высылать ей деньги, без которых она погибнет.
Передайте мой привет и все чувства любви моей Мариенгофу. Я послал ему два письма,* на которые он почему-то мне не отвечает.
О берлинских друзьях я мог бы сообщить очень замечательное (особенно о некоторых доносах во французск<ую> полиц<ию>, чтоб я не попал в Париж).* Но все это после, сейчас жаль нервов.
Когда поедете, захватите с собой все книги мои и Мариенгофа и то, что обо мне писалось за это время.
Жму вашу руку.
До скорого свиданья. Любящий Вас Есенин.
Ирме мой нижайший привет. Изадора вышла за меня замуж второй раз* и теперь уже не Дункан-Есенина, а просто Есенина.
Литвинову М. М., 29 июня 1922
М. М. ЛИТВИНОВУ*
29 июня 1922 г. Дюссельдорф
Июнь 29 <19>22
Уважаемый т. Литвинов! Будьте добры, если можете, то сделайте так, чтоб мы выбрались из Германии и попали в Гаагу,* обещаю держать себя корректно и в публичных местах «Интернационал» не петь.* Уважающие Вас С. Есенин Isadora Duncan
Сахарову А. М., 1 июля 1922
А. М. САХАРОВУ*
1 июля 1922 г. Дюссельдорф
1 июля <19>22. Друг мой Саша! Привет тебе и тысячу поцелуев. Голубь милый, уезжая, я просил тебя помочь моим сестрам денежно, с этой просьбой обращаюсь к тебе и сейчас. Дай им сколько можешь, а я 3-го июля еду в Брюссель и вышлю тебе три посылки «Ара». Прошу тебя как единственного родного мне человека. Об Анатолии я сейчас не думаю, ему, вероятно, самому не сладко. Я даже уверен в этом.
Родные мои! Хорошие!…
Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом?
Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство начхать — самое высшее музик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. Ну и ебал я их тоже с высокой лестницы. Если рынок книжный — Европа, а критик — Львов-Рогачевский, то глупо же ведь писать стихи им в угоду и по их вкусу. Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички какают с разрешения и сидят, где им позволено. Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией?
Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к ебенейшей матери и навострить лыжи обратно. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину. Еб их проеби в распроебу. Конечно, кой-где нас знают, кой-где есть стихи переведенные, мои и Толькины,* но на кой хуй все это, когда их никто не читает.
Сейчас на столе у меня английский журнал со стихами Анатолия,* который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка: в колич. 500 экз. Это здесь самый большой тираж! Взвейтесь, кони! Неси, мой ямщик….. Матушка! Пожалей своего бедного сына.*..
А знаете? У алжирского бея под самым носом шишка?*
Передай все это Клычкову и Ване Старцеву. Когда они будут ебунаться, душе моей в тот час легче станет. Друг мой! Если тебя обо мне кто-нибудь спросит, передай, что я пока утонул в сортире с надписью на стенке: «Есть много разных вкусов и вкусиков* · · ·»
Остальное пусть докончит Давид Самойлович и Сережа. Они это хорошо помнят. Передай им кстати мой большущий привет и скажи, что я пишу им особо.* Твой Сергунь.
Гоголевская приписка:* Ни числа, ни месяца,* Если б был хуй большой, То лучше б на хую повеситься.
Мариенгофу А. Б., 9 июля 1922
А. Б. МАРИЕНГОФУ*
9 июля 1922 г. Остенде
Милый мой Толенок! Я думал, что ты где-нибудь обретаешься в краях злополучных лихорадок и дынь нашего чудеснейшего путешествия 1920 г.,* и вдруг из письма Ильи Ильича узнал, что ты в Москве. Милый мой, самый близкий, родной и хороший, так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая «северянинщина» жизни,* что просто хочется послать это все к энтой матери.
Сейчас сижу в Остенде. Паршивейшее Бель-Голландское море* и свиные тупые морды европейцев. От изобилия вин в сих краях я бросил пить и тяну только сельтер. Очень много думаю и не знаю, что придумать.
Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распространения* наших идей в поэзии,* а теперь отсюда я вижу: Боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может. Со стороны внешних впечатлений после нашей разрухи здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах особенно твоему взору это понравилось бы, а потом, думаю, и ты бы стал хлопать себя по колену и скулить, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрей ящериц, не люди — а могильные черви, дома их гро́бы, а материк — склеп.* Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы, ибо черви помнить не могут.
Из всего, что я намерен здесь сделать, это издать переводы двух книжек по 32 страницы двух несчастных авторов,* о которых здесь знают весьма немного в литературных кругах.
Издам на английском и французском.* К тебе у меня, конечно, много просьб, но самая главная — это то, чтобы ты позаботился о Екатерине, насколько можешь.
Тысячу приветов Давиду Самойловичу, и Сереже, и Кожебаткину, а Ваньке Старцеву сто подзатыльников.
Из Дюссельдорфа я послал письмо Сашке.* Если у тебя с деньгами трудно, то ухвати его за полы и ограбь. Пересылать деньги отсюда при всех моих возможностях оказывается невозможно.
В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха.* Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно. Том свой продал Гржебину.*