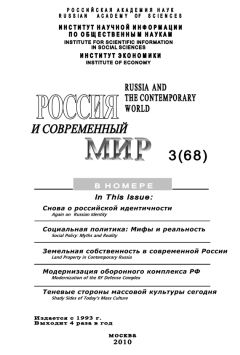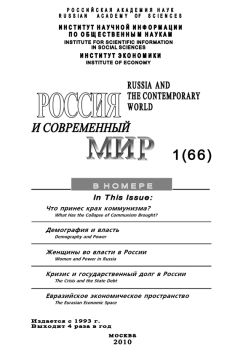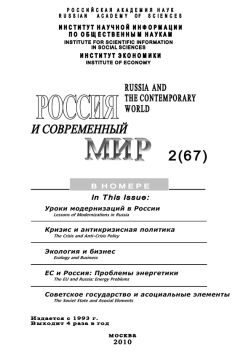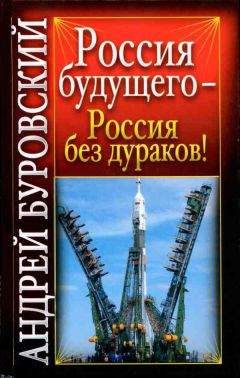Владислав Резвый - Победное отчаянье. Собрание сочинений
Неизвестно, отразились ли эти обстоятельства на характере Л. Критик марксистского толка написал бы статью: «Трагедия Лермонтова в марксистском освещении», где подробно исследовал бы причины, предавшие поэзии Л. тот, а не иной оттенок. Канва его мыслей была такова, что дворянин, род которого утерял свою былую значительность, переживает себя разночинцем. И отсюда он вывел бы и желчность Л., и многие причуды его биографии.
Хочется все-таки думать, что это не совсем так, что личность гораздо свободней, чем видят ее марксисты, что не только общественные условия создают ее, что дело где-то в центре личности, в глубине души, что ли. С этой стороны я хочу посмотреть на Л.
Собственно с Л. (о Пушкине скажу несколько слов потом) начинается новая русская поэзия, которая до самых последних лет носит в себе хаос.
С Л. поэты привыкают быть ослепленными своими страданиями и страстями. С Л. отсутствует у русских поэтов объективное к себе отношение, что придает русской поэзии ей только свойственный исступленный характер. Об идеализме русской литературы мы достаточно наслышались, но никто не задумывался, спасительные или не спасительные идеалы рисовала русская поэзия. Идеал Л., во всяком случае, не был спасительным. Лермонтов почти до самой смерти находился во власти байроновских настроений, оправдывая свое пристрастие к английскому поэту сходством характеров: «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник…» Несомненно, что Байрон влиял на впечатлительного Л. своей, действительно, подавляющей индивидуальностью и, может быть, сыграл в жизни Л. роковую роль, так как «показывать миру свои когти» он обучился у Байрона. На свое несчастье, он забывал, что он не в Англии, но в Росси, в стране, где возможно всё, где размеры таланта никогда не спасали людей от гибели. Кроме того, он страдал недостатком рассудительности, он так сильно любил людей, что не был в состоянии презирать их внутренне и смиряться перед ними внешне. В светском обществе его самолюбие уязвляли поминутно, он играл в холодность, разочарованность и заносчивость, стали его укрощать и, наконец, укротили в 1841 году рукою некоего Мартынова.
Я сейчас не пишу монографии, я хочу провести одну только мысль, что Л. отнесся к себе небрежно сам, скорей, даже не небрежно, а злобно, почти как враг. Он был в вечном с собой разладе, и вся жизнь его при пристальном рассмотрении представляется перманентным самозамариванием, саморазрушением. Он вел ненормальный образ жизни, – то ночные оргии, то ночная работа. Но к этому приспособилось бы его железное тело, если б не примешалась еще причина психического характера. Л. внутренне никогда не давал себе свободы в противоположность непосредственному Пушкину. Немудрено, что образ «темницы» часто мелькает в его стихах. «В каменный панцирь я ныне закован, каменный шлем мою голову давит». Скованность сквозит в выборе тем Лермонтовым, он значительно однообразней Пушкина и почти всегда выражает равнодушие ко всему, – самая пагубная для поэта черта. Об этом хорошо говорит Гоголь: «Безрадостные встречи, беспечальные расставания, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом его стихов и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом «безочарование». Безочарованием Л. сковал свой мозг так, что потом не стало сил освободиться.
У Л. была какая-то роковая способность идти по намеченному раз пути хотя бы и к гибели. За Байроном он пошел и в стихосложении, но, к счастью, здесь влияние Байрона не оказалось таким пагубным, напротив, русский стих обогатился новыми мелодиями. Это он впервые принес размерные перебои, характерные для английского стиха, но в русском языке считавшиеся недопустимыми настолько, что даже после Лермонтова поэты не решались их употреблять, пока их не узаконили совсем недавно символисты. Но особенно эта преемственность его стихосложения от Байрона подчеркивается изобилием у Лермонтова мужских рифм, которые характерны для него, как ни для кого из предыдущих и последующих русских поэтов. У Пушкина количество мужских и женских рифм находится в приблизительном равенстве. Не то у Л., который даже крупные поэмы, («Боярин Орша», «Мцыри») строит исключительно на мужской рифме. У Пушкина нет ни одного стихотворения с таким звучанием:
Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Они еще не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит,
И смерть навеки оживит.
Мужская рифма придает поэме «Мцыри» особую выразительность. После каждой строки точно стоит точка, точно поэт, читающий вслух стихи, обрубает каждый стих ударом ребром ладони. Надо заметить, что пристрастием Л. к мужской рифме символизируется именно его скованность, вернее, «самосковываемость, самоурезывание, самоограничение», так как мужская рифма вообще менее свойственная русскому языку, в котором наибольший процент слов имеет ударение на втором или на третьем слоге от конца слова, нежели на последнем. Писать поэмы одной лишь мужской рифмой был явно неблагодарный труд, но никаких трудов не боялся Л., чтобы себя сковать. В данной поэме, впрочем, он явился победителем, но сколько раз он бывал побежденным.
В своем слепом стремлении сделать себя сильным путем колоссального самоограничения и отгораживания от радостных сторон жизни Л. пошел так далеко, что потерял свободу и власть над собой, которую так желал иметь. Терять свободу ему помогало и отсутствие объективного отношения к себе и своим страстям, – Л. до конца своих дней не изжил в себе юношеского эгоцентризма: «я – центр мира».
Он никогда, например, не написал бы на себя эпиграмму, как это сделал Пушкин:
Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю,
Исполню ли, – Бог весть.
Так написать о себе может только человек, способный покинуть на мгновение свою оболочку и взглянуть на себя спокойными глазами со стороны. Как раз от Пушкина остается впечатление, что он сам видел себя точно таким, каким мы теперь его себе представляем: «миляга, простой рубаха-парень, кутила, шалун», видел высшим духовным оком, но это духовное око у него отнюдь не возмущалось зрелищем «кутилы и волокиты». Не помешай ему злые люди, он закончил бы свою жизнь так же, как прожил, завидно легко, потому что он прежде всего не рисовал себе себя неким идеалом, демоном, подобно Л., а что у него выходят иногда хорошие стихи, он думал, что это так, – свыше. Не лишенный, однако, рассудительности среднего человека (назовите его обывателем), он понимал, что и свыше ничего не слетает даром, что много надо корпеть, потеть и думать, чтобы уложить в четкие стихи то, что слетело свыше. Писать ему по-русски было трудно, так как с детства он говорил, читал и писал по-французски, но он не унывал, работал, вкладывая в работу большой жар, – ведь по его жилам текла горячая неутомленная кровь. Но он не был бы гений, если б только жар и опьянение он вносил. Была у него и трезвость, сознание, что для русской словесности не надо жалеть сил, -и он не жалел… Кто еще в русской литературе написал более просто, просветленно и проникновенно о труде:
Миг вожделенный настал. Окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?
Эти черты Пушкина, несмотря на их видимую простоту, являются, вероятно, самой таинственной загадкой, которую Пушкин вместе с собой подставил под выстрел Дантеса и унес в могилу. Непонятен нам, русским, неисступленный труженик, – непонятно, каким образом так легко промаялась на этом свете его усложненная, многосторонняя натура, без видимых конфликтов с самим собой. Отсюда вывод: наша тяга к Пушкину – тяга к непонятному, к тому, чего у нас нет, – а у нас, действительно, нет Пушкинской гармоничности, – мы все тоскуем об утраченной гармонии.
Сколь с этой точки зрения ясней нам Л., внесший в русскую литературу хаос своей путаной души. Да, – начиная с несчастного, вечно двадцатишестилетнего Михаила Юрьевича Лермонтова, русская литература стала самой исступленной и самоуглубленной из всех европейских литератур. Не от него ли пошла аскетическая муза мести и печали Некрасова и современная околдовывающая муза, питавшаяся цыганскими надрывами, «ночами безумными, ночами веселыми», муза пышноволосого аристократа, носившего в себе немецкую кровь, – муза Блока.
Повторяю: нам понятнее Л., но почему все-таки Пушкину посвящаем мы дни нашей русской культуры? Не хороший ли это знак, что мы хотим излечиться от нашего тайного пристрастия к Л., ставим памятник ежегодно Пушкину, хотя, в сущности, лишь Л. – властитель наших дум.
* * *Собственно, я сказал всё, что намеревался, но, боясь, что буду не понят вполне точно, делаю резюме вышесказанного…