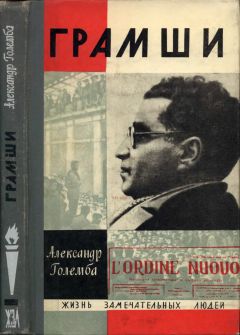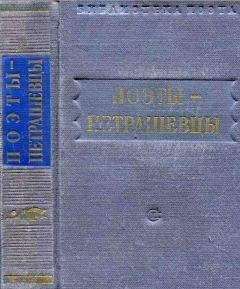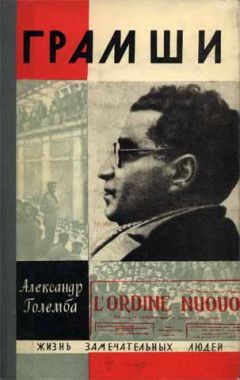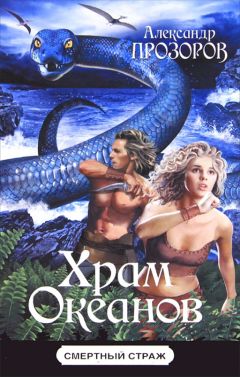Александр Големба - Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения
«Один актер хотел сыграть…»
Один актер хотел сыграть,
как дерево растет,
как осеняет благодать
его листву и плод,
как от верхушки до корней,
от кроны до ствола
оно становится смирней
кухонного стола.
Как дождь шуршит в его ветвях
и в трещинах коры
и оставляет впопыхах
хрустальные дары,
и как пичуги гнезда вьют
среди ночных рулад,
и как стальные звезды шьют
ему большой халат,
как хлопья покрывают торс,
и плечи, и бока,
и как мерцает снежный ворс
на пальцах чудака.
Актер сыграл сто пять ролей
и помер сгоряча, –
играл он юных королей
и старого хрыча,
играл погонщиков коров
и герцогов играл,
играл седых профессоров,
игравших в интеграл,
играл без меры, без числа:
такое ремесло!
И рампа смерть ему несла,
а дерево росло –
оно расправило до звезд
свой исполинский рост,
широкошумною листвой
пугая звездный рой.
Росло, не зная для чего,
снося чужую боль, –
его последняя, его
несыгранная роль.
«Как «Чайка» Треплева и Дорна…»
Как «Чайка» Треплева и Дорна,
как банки лопнувшей удар,
материальность иллюзорна, –
таков уж этот Божий дар.
Уныла, как поэт без денег,
пиеса в актах четырех,
где моложавый неврастеник
казнит презрением дурех.
О монументе-истукане
не думай, праздный человек,
о пыльной Чайке в складках ткани,
летящей уж который век.
Пока выбалтывают губы
в заветном шелесте души:
«Попить. С вареньицем. Чайку бы.
С баранками. Попить. Чайку бы».
Испей. Но драмы не пиши!
«Прости меня. Я говорю с тобой…»
Прости меня. Я говорю с тобой
на языке дешевых аллегорий,
на языке холодных эпитафий,
кладбищенской травы, надменных туч!
Ты – словно вспышка магния. Лицо
в венце. Как рот кладбищенской мадонны.
В 4.20 прибыл самолет,
и в цинковом гробу въезжает в гибель
тот, кто моим врагом от века не был,
хотя, быть может, был не вовсе другом.
Прости меня. Я свет иного дня
и не лишен надежд и упований,
и ежели из мертвых выпал рук
не светоч, нет, а так – светильник малый,
то кто-нибудь обязан подхватить
и этот малый, этот слабый светец,
хотя потом придется дуть на пальцы.
Я чту тебя. Боюсь шумливых слов,
и всё же – чту. Прости меня, учитель.
НА СМЕРТЬ ПОЭТА
Трудно душе говорить об ушедшем
в столпотвореньи отрад и печалей,
в космосе, в вихре его сумасшедшем,
трудно, как трудно не плакать ночами,
вспомнив, что добрые веки сомкнулись,
вспомнив, что он не увидит рассвета,
вспомнив, что кружево праздничных улиц
больше не встретит живого поэта.
А у судьбы не прямая дорога,
а у поэта нет права на жалость:
много любил он и сетовал много,
много невысказанного осталось –
невоплощенных тревог и желаний,
замыслов, не превратившихся в слово, –
юность жила в седине его ранней,
нежность – в улыбке поэта седого.
Трубы столетья поэту трубили,
зори столетья поэту сияли,
женщины крепко поэта любили,
юноши чутко поэту внимали, –
что же тогда называется счастьем,
если не эта святая влюбленность,
сердце, охваченное всеучастьем,
жизни ликующей неугомонность?
Шашка стоит у его изголовья,
тяжкие книги не сдвинуты с полок,
смерть заглянула под прочную кровлю,
друг мой в отъезде – а путь его долог.
Долог иль нет – мы тебя не забудем,
мы – твои песни, сыны, побратимы:
слово твое устремляется к людям,
Смерть и Поэзия – несовместимы!
ПАМЯТИ ПОЭТА
Порою проза мне внушает страх.
Так вот, перенимая эстафету,
я буду говорить о нем в стихах,
как это и положено поэту.
Что остается в памяти людской?
Какие-то черты, приметы, краски…
Конечно же, не гипс холодной маски,
а огненного сердца непокой.
Проходит и уходит человек,
а хрупкий голос остается с нами.
Чуть барственный. За строгими словами
нам слышится дыханье горных рек.
Слова опять ложатся на весы.
Суровые. И кроткие, как дети.
Медлительные движутся часы
в его пустом рабочем кабинете.
Что было с ним? В нем клокотала кровь
стремительно, тревожно и устало,
в нем плакала вселенская любовь, –
стыдиться этой рифмы не пристало.
Его судьбу поэзия прожгла,
оледенили синие метели, –
младенческая нежность в нем жила,
нежданная в таком гигантском теле.
Патетика вступала на порог
и оступалась, мудро и нежданно…
В нем юмор жил. Не жалкий юморок,
а добродушный юмор великана.
А благодушный юмор. Без затей.
Не вытесненный ни хандрой, ни сплином…
Он остается в памяти моей
седым сорокалетним исполином.
Как замыслы рождаются в тиши!
Луна в окне повисла тонкой льдинкой.
Он, сгорбившись, чинил карандаши
какой-то хитроумною машинкой.
Потом в гроссбух ложилась строчек вязь,
итоги размышлений, и видений,
и ви дений. Ночных бессонных бдений.
Так новая поэма началась.
Он знал, что в ней немногого достиг.
И, карандаш сжимая цепкой хваткой,
вел дальше речь. Особою повадкой
порою отличался белый стих.
Он возвещал о сердце молодом,
шел в бестолочь лирического сплава,
но внешне сдержан был. Так подо льдом
в Исландии еще клокочет лава.
Какой он был мудрец и фантазер
в сединах цвета пепельного дыма…
Он иногда листал МОРСКОЙ ОБЗОР
ИТАЛИИ – РИВИСТА МАРИТТИМА.
Он был земной. Он был душой земли,
в былинном, прочном, богатырском стиле.
Но как его манили корабли,
как пароходы стройные манили!
Потом поэма поднимает флаг,
и он листков исписанную груду
укладывает в «Папку для бумаг»
(«К чему здесь надпись “Папка для бумаг”,
ведь я носки совать в нее не буду?!»).
Пусть белый, раскаленный добела,
стих поостынет в ящике стола.
Пусть пожелтеет по краям бумага.
Ну хоть чуть-чуть. Не очень, а слегка.
Пускай поэма не спускает флага,
ведь, может быть, она войдет в века,
а может быть, умрет в столичном шуме;
пусть огненное сердце плавил лед, –
итоги всех терзаний и раздумий
тебе, читатель, он передает.
В твои музеи и библиотеки
он входит с каждой новою строкой,
но не забудь о странном человеке,
ведь был на свете человек такой,
бесспорно, с недостатками своими,
а вот – не выносил сладчайшей лжи;
и, неподкупной истины во имя,
спасибо современникам скажи.
За то, что тщательно оберегали
его от пышных званий и регалий,
за то, что не кадили фимиам,
что в горечь не подмешивали сладость,
а он – а он всю грусть свою и радость
дарил своим клокочущим словам!
Не сладость. Не елей скороговорок.
Не соловьиных трелей перелив.
Он был поэт. Как вечность, дальнозорок.
А сердцем не речист. Не говорлив.
И всё ж не мог остаться пантомимой
бунтарских строф ликующий накал,
и – образный, великолепный, зримый,
внезапный мир пред нами возникал!
Он возникал – оформлен и оритмен,
линейно-четок и грозово-синь, —
вот так воспел бы розы и полынь
двадцатого столетия Уитмен.
Колдуя, торжествуя и греша,
ликуя, шарлатаня и шаманя,
он был как призрак на киноэкране,
Солнцеворота звонкая душа!
Когда в душе поселится талант,
уют не осеняет человека.
Он поднял – поэтический Атлант –
живое бремя Середины Века,
он эту ношу на себя взвалил,
большой, широкогрудый, крепкоплечий, –
груз разочарований и увечий,
смятений, расставаний и могил.
Груз радостей, надежд. Печалей бремя.
Спортсмен, и книгочей, и эрудит,
чьим голосом заговорило Время,
кого само Забвенье пощадит.
Приходит ночь и тихо лампы тушит
на старомодном письменном столе;
душа живет не в ерунде частушек –
в поэмах строгих, в горном хрустале.
Душа живет в ямбическом походе.
В нейтронах. В атомах. В любом из нас.
О, на каком прозрачном пароходе
плывет она в Грядущее сейчас?
Она, запечатленная в граните,
к нам, к людям обращается окрест:
«Запомните – во мгле не затемните
мой краткий облик, мимолетный жест!»
Темнеют строф шершавые поковки,
меня он призывает на совет,
и на стеклянной крыше Третьяковки
горит самосожженческий рассвет.
И я, прозаик с тусклых побережий
(гори, рассвет, гори и розовей!),
ловлю его застенчиво-медвежий,
дремучий взгляд из-под ночных бровей.
Рассвет всей глыбой впаян в четкость линий,
махиной всей вмурован в грозный быт.
В рубахе трикотажной темно-синей
передо мной Поэзия сидит.
Рассветным алым пламенем багрима
и все-таки белее полотна,
вдруг Мастером становится она,
раскуривая сигарету «Прима»
у настежь растворенного окна.
«Есть у каждой поры свой особенный норов…»