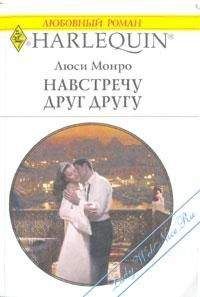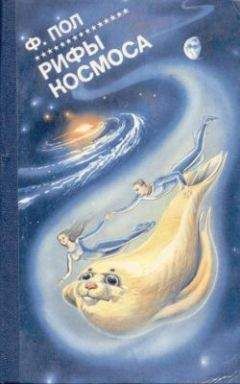Евгений Рейн - Мне скучно без Довлатова
КАБИНЕТ
А в походной сумке спички и табак,
Тихонов, Сельвинский, Пастернак!
Мой сын, мой сын, будь тверд, душою не дремли,
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.
Я видел сотни этих фотографий
в альбомах частных или в госархивах,
для кинофильмов их перебирая.
Там были и шикарные — от Буллы,
от Оцупа, от москвича Паоло,
а были жалкие любительские фото,
на лейках, кодаках и фотокорах
когда-то где-то снятые. Я свой
несвежий хлеб имел в киноискусстве
научно-популярном, для чего
экранизировал литературу.
Я сочинил сценарии такие:
Куприн, Чуковский, Лермонтов,
Чадаев, Валерий Брюсов, Пушкин
как создатель «Онегина», конечно,
Маяковский, «Поэты на войне»,
«Поэзия в двадцатые», — и вот
теперь писал сценарий «Клим Поленов».
Всегда работа начиналась с фото,
фотографироваться все тогда любили,
но русские писатели особо
(читай у Бунина об этом),
А поэты особо средь писателей.
О, Боже, что только видел я:
Блок на балконе, темный, загорелый,
с открытым воротом и Люба рядом,
Есенин и Дункан на пляже в Биаррице,
в руках бокалы, пестрые пижамы,
плетеная кабинка, словом — «люкс»,
вот Маяковский с Лилей в зоопарке
берлинском, Пастернак окучивает
грядки с огурцами, Ахматова
на неизвестном камне гимнастику
проделывает,
поэт Бальмонт у Эйфелевой башни.
А вот они — советские поэты:
Багрицкий смотрит в микроскоп,
Сельвинский у нарт натягивает
постромки (челюскинский поход),
вот на диване в Чистополе трое —
Асеев, Пастернак, Сельвинский в портупее, —
когда б на фото появлялись духи, я
думаю, Цветаевой пятно осталось бы
на этом негативе. Вернемся
все-таки туда к своим двадцатым,
к своим тридцатым. Боже, Боже мой —
какие плечи, лацканы, улыбки!
В Париже группа — шестеро поэтов,
и рядом два посла. А вот они
в кавалерийских галифе и крагах, вот
в гимнастерках, в пряжках и ремнях,
и на них висят кобуры, а также
холодное оружие. Они в песках Туркмении,
на пляжах Черноморья, на пленумах,
на съездах, на банкетах — все, все останется
векам и даже фотография с билета сезонного
поэта Мандельштама на электричку,
год тридцать шестой…
Поленов мой был рекордсмен по фото.
Работа шла успешно. Кое-что
я присмотрел и в собственном архиве.
Я вырастал в забавнейшее время —
умер Сталин! Дверь приоткрылась,
мы вошли — пустыня! Вернее —
русская затоптанная пустошь
лежала перед нами. Вот обрубок,
обломок, щепка, ржавое болото
припахивало трупами, поди-ка
разберись. И что же, пришлось нам
разобраться. Все одним, почти
без консультантов. Какие консультанты?
Глушь, туман. Кое-что, конечно, попадалось.
Кое-как во тьме энциклопедий, примечаний
к другим энциклопедиям, куски в журналах,
строчки из статей погромных (это, впрочем,
один из самых верных нитей). Наконец,
пошли и сами книги! Помню, помню,
как я обшаривал шкапы и сундуки,
поездки к барахолке на Обводный,
забытые библиотеки (ибо библиотеки
высшего калибра очистили от книжек
прежде нас в масштабе государственном).
Я до сих пор немею, принимая в руки
легчайшие бумажные изделья, первоиздания
десятых и двадцатых. Боже мой,
не будь я идиотом, что за суммы
нажить я мог на этих книгах,
в одном укромном месте я нашел
Поленова штук восемь первых книжек.
Поленов был поэтом талантливым,
случалось — гениальным
(коль гениальность бычий есть напор),
везде на форзацах, на титулах, обложках
красуется его чеканный профиль
как некий знак масонский.
Поленов был неслыханно красив.
Актер в каком-нибудь забытом фильме
Ханжонкова, а может, Фрица Ланга,
когда б задумали они поставить «Илиаду»
иль что-то римское, — так вот актер,
игравший Ахиллеса, а может, Ромула,
а может, Сципиона. Таким вот поразительным
лицом отмечен был Поленов. Лоб и нос
одною Апеллесовой чертой, а профиль
императорской монетой. Держалось это
до военных лет. Через двадцатые
прошел Поленов в первых, в тридцатых
просто первым стал, поскольку в это время
иные перешли на перековку, а кой-кого
закрыли на учет. А он писал, писал,
писал, писал. О Средней Азии,
о черноморских бурях,
о Лондоне, Берлине и Париже,
куда он ездил словно бы на дачу, —
взял чемоданчик, чистая пижама
да смены две сорочек, и махнул!
Московский фраер, бабник, алкоголик,
он издавал двухтомники, он книги
свои прекрасными гравюрами украсил.
Их и сейчас приятно в руки взять!
И все-таки он был большим поэтом,
я знаю двадцать пять стихотворений,
которые он сможет принести на Страшный Суд
литературы и, может статься, — все ему простят!
Бег времени, о, марафонец наш!
Уже другие годы, я оброс товарищами,
и теперь картина прояснилась в известной
степени. Однажды, возвращаясь из Карпат
через Москву, я с Голышевым Митей,
набрав в горсправке кучу адресов,
отправился узреть своих кумиров.
И оказались живы все почти. Живут в Москве,
в Репейном переулке, что на Таганке,
многие на дачах в поселке Перепелкино,
и все доступны и гостеприимны.
Нам Луговской показывал знамена,
мы пили чай Сельвинского, читали
на кухне у Кирсанова стихи,
нам Тихонов рассказывал про Будду,
Христа и Зороастра, Пастернак
своей рукой яичницу готовил
из десяти яиц (мой аппетит,
куда ты удалился?),
Олеша занял три рубля до завтра
(но это область прозы — замолкаю!),
Асеев пошутил примерно так:
«Коль не имеешь осязанья, братец —
ни слова о Сезанне!» Дело в том,
что за статью о выставке Сезанна
меня из института исключили,
Поленов месяцами жил в отеле
в поселке Перепелкино, и мы его
застали за бутылкой водки.
Расплылся, размягчился наш кумир,
обмяк, оброс махрой домашней пряжи,
свисали брови, алые прожилки
набухли и пульсировали. Он
был явно добрым и широким человеком.
— А ну, ребята, выпьем, а потом
прочтем друг другу лучшие сонеты.
Июньский вечер, запахи, природа,
поет соловушка, и нам Поленов
читает книгу двадцати поэм.
Там есть необычайные места,
исполненные ярости и силы,
есть пластика Рембрандтовой замашки,
есть многое — но все это провал.
Нельзя всю жизнь прожить, как жил Поленов,
и «Фауста» под занавес создать!
Потом читаем мы. Он шутит, хвалит,
еще бутылка водки. Мы в угаре —
такое счастье, сам Поленов нас
и выслушал и, выслушав, одобрил.
На электричке мы спешим в Москву,
и грузный наш Поленов, на свежую
дубину опираясь, до полдороги провожает нас.
И снова — годы, годы, годы!
На дне рождения известного повесы
все в том же Перепелкино меня
сажают рядом со вдовой Поленова
Ее зовут Августа (по поводу ли Байрона,
а может, иному поводу — не знаю,
но забавно — по паспорту она Полина Львовна).
Она мне нравится, в ней что-то есть такое…
что я, и в гроб сходя, скажу: в Августе
такое есть, что нынче уж нигде, ни за какие
деньги не укупишь. И снова год, а может,
полтора…
И я пишу сценарий «Клим Поленов»!
Я прихожу к Августе. Вот квартира
в домишке, что в Репейном переулке
вознесся на двенадцать этажей
над домиками в полтора аршина.
Она ведет меня по кабинету Поленова —
какая красота! Коллекция оружия —
клинки дамасские, гурда и золинген, божки
и будды, идолы Востока и негрская скульптура,
даже маски каких-то эротических мистерий,
но главное — шкапов пятнадцать книг,
гравюры в палисандре и ампире,
коллекция старинных орденов, подсвечников
семнадцатого века, петровское стекло
и книги, книги — чудовищное что-то —
эльзевиры. И стол огромный, мощный у окна.
А у стены диван. Мне объясняет Августа:
он, диван, набит особым волосом туркменского
сайгака, и потому на свете нет предмета,
где было бы удобнее лежать.
Ночую у Августы на диване,
набитом волосом туркменского сайгака,
и, верно, этот молодец — сайгак.
И вот, дабы пресечь теченье мыслей,
я достаю из глубины журнал,
какой-то там журнал годов двадцатых:
нормальная белиберда — Иван Катаев,
вот Эренбург, дискуссия Полонского
и Фриче с Иудой Гроссман-Рощиным,
статейка о враждебном Заболоцком,
и вдруг я замираю — что такое?
Статья какого-то Авдеева
«Тогда в Тобольске и Екатеринбурге» —
да это о расстреле Николая и всей семьи,
и это написал тот человек,
что нажимал курок.
Я выписал лишь несколько абзацев:
«…Когда мы предложили предъявить для осмотра ручные вещи, Александра Федоровна начала протестовать на ломаном русском языке — оказывается, бывшая русская царица и говорить-то по-русски не умела. И доктор Боткин объяснил нам ее протест. Она кричала „истефательство“, „хосподин Херенский“ и еще что-то. По объяснениям Боткина это значило, что она указывала на Керенского как на образец вежливости, а наш осмотр считала издевательством. Николай Романов молчал… Бывший царь сам приходил в комендантскую и торговался насчет увеличения штата по каждой единице мирным путем… Первые две-три недели были еще затруднения с арестованными в смысле стирки белья. Привыкли они белье менять ежедневно, и надо было эту массу белья тщательно просмотреть, прежде чем сдать его прачкам, при возвращении — та же история. Согласовали мы этот вопрос с тов. Белобородовым и предложили заняться стиркой белья самим дочерям царя совместно с Фрейлиной Демидовой, да и на кухне было удобно отгородить помещение для прачечной. А делать-то им было нечего, не мешало немножко поучиться работе, хотя бы на себя. И действительно, после оборудования прачечной тов. Андреев, бывший матрос-балтиец, оказался хорошим учителем, и дело со стиркой наладилось, с тем только лишь, что менять белье они стали гораздо реже… Однажды Алексей услыхал, как красногвардейцы поют „Вы жертвою пали в борьбе роковой“. Алексей спросил меня, знаю ли я эту песню, и, получив утвердительный ответ, попросил списать слова, так как ему очень понравился мотив… Оставалось одно — бывшего царя Николая Романова, его семью и приближенных расстрелять. В ночь с 16 на 17 июня это и было приведено в исполнение…»