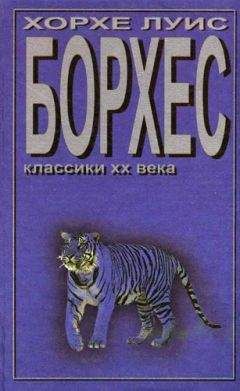Хорхе Андраде - Земное жилище
Гость
Лето провозгласило свою диктатуру,
учредив сенокос на поляне опальной,
и пришел ко мне в гости взволнованный ветер
и доставил из сельвы послание пальмы.
И горячий настой ананаса и кофе
побежал по артериям, напоминая
о земле, где струятся студеные змеи
и плодами на ветках висят попугаи.
Где кокосы, качая нечесаной гривой,
раскачали упругий гамак аромата,
и плывет над зыбучими кронами небо,
словно барка, гружённая снами и ватой.
Жизненная алхимия
Во мне живет старик и смерть мою готовит:
дохнет — и превратились годы в пепел синий,
во фруктах сахар разложился,
и в органический мой лабиринт влетает иней.
Иголками, и ветром, и бесцветным веществом он управляет, —
тот гость, во мне устроивший засаду.
Порой, когда я сплю, то слышно, как по капле льется
в его кувшин какой-то эликсир ему в отраду.
Своею желтой химией он выкрасил мне кожу,
умерил он тепло моей руки,
и не мое лицо я вижу в зеркалах, —
его лицо: морщины и круги.
Он в самой глубине свой заговор плетет,
там, где мое нутро дрожит, как загнанные звери;
и, меж веществ зеленых и реторт со льдом
готовя смерть мою, он гонит годы в двери.
Собственность
Окно — вся собственность моя: оно
быть хочет небом с полем пополам
и на своей границе хрупкой с миром
присутствие предметов отмечает.
И вот кольчугой дерево одето,
дорога света превратилась в шпагу,
и зерна в шлемах на току воюют
за жизнь свою, и без оружья птицам
напоминает пугало о том,
что с мертвецом оно в прямом родстве.
Недвижные, но юные колосья
готовы на пари бежать за ветром.
Сорвавшись с места, пыльная спираль,
как каторжным, деревьям вяжет руки
(сообщничество трели и плода),
и вот уж в звучном беспокойстве тонет
засеянных полей рисунок детский.
Все — лишь таинственная страсть в движенье,
страсть, чтобы жить: на пастбище коровы
и травы — дети в школе у дождя.
Окно что пристань неба. На его
воздушных неизменных плоскостях
все птицы — рыбы или отраженья,
листва — осыпавшееся тщеславье,
груженные посевом облака
идут, чтоб бросить на землю швартовы,
а реки и растенья — остановки
на их космическом круговращенье.
Иностранец
Непроницаемо и молчаливо
пространство льда лежит вокруг без края,
и гаснут там пылающие знаки,
и смысл земные языки теряют.
Растений и селений протяженность, —
одушевляет их лишь вездесущность ветра, —
широты, сокращаемые ночью,
забытые на карте сна меридианы, недра…
Нет дружеского жеста птицы, или тучи,
или обычной черепичной крыши густобровой.
Немой монах зеленый в каждом дереве живет,
и небо без зрачков глядит на мир суровый.
Среди меняющихся лиц, растущих зданий
ищу в общенье с кем-нибудь спасенья,
но горечь косточки скрывает этот плод,
он остается у меня в руках лишь в форме тени.
Ты, одиночество потерянное, найденное вновь,
власть безграничную свою вручаешь птицам;
невидимою силой охраняем,
в твои интимные края могу я просочиться.
Забыв о компасе и о земных наречьях
и небом подгоняемый с рассвета,
вброд одиночество переходя, как реку,
пересекаю я немую географию планеты.
Путешествие
Единодушно и сине моря восстанье:
водные толпы его, соли собранья.
Обвал за обвалом с разорвавшейся спайкой
и молчанье внезапное, оборачивающееся чайкой.
Море, с волненьем твоим я смешиваюсь в самом деле
и с небом, что качается на твоих огромных качелях.
От грома к сиянью как быстры твои перемены!
На подносах своих предлагаешь ты цапель из пены.
Словно мошки, в тебе миллионами искры светят,
их свеченье — как будто теченье песков, иль светил, иль столетий.
Мое тело вступает в поток твоей вечной работы,
о, носильщик, что соль кладет в прозрачные соты,
о, погонщик диких кобыл, которые мчатся
до самого горизонта, чтоб до пастбищ добраться,
светлый подмастерье, снимающий мерку с островов,
синий каменотес заливов, бухт, берегов,
бесконечный пленник среди скал, дюн, побережий,
вечные цепи пены рвешь ты и режешь!
Эта прекрасная размеренная жизнь
На кухне принимают утренний душ тарелки,
рог фонаря таранит брюхо тумана,
в корзинах серебрится рыба, и полицейский
посинел от рассветного холода, — значит,
самое время оставить последний рубеж сна.
И вот я вхожу в день, дабы изменить порядок вещей,
осуществляя свое невнятное предназначенье.
Между тем воробьи затеяли заговор,
на который деревья смотрят сквозь пальцы,
и всадники дыма скачут над печными трубами.
Каждое блюдо — это немножечко и время года,
каждый шаг — это начало дороги,
в каждой ладони — зачатье или кончина вещей.
Встают один за другим часы
со штыками курантов наперевес,
и под эскортом ночей плетутся плененные дни.
Земное жилище
Живу я в карточном домике,
в строенье песчаном, в воздушном замке
и провожу время, ожидая
обвала стены, явленья луча,
почты небесной с финальным известьем,
приговора, который принесет в себе оса,
приказа, который, как бич кровавый,
развеет по ветру ангелов пепел.
Тогда потеряю свое земное жилище
и окажусь сызнова голым.
Рыбы, светила
поднимутся по теченью своих небес опрокинутых,
но все, что цвет, птица или имя,
станет снова только горстью ночи,
и на останки чисел и перьев,
на тело любви, созданное из плода и музыки,
опустится в конце концов, как мечта или тень,
беспамятный прах.
Безымянный остров
Просмоленная лодка,
опочив на боку,
про соленую тину
что-то шепчет песку.
Да и сосны бормочут
то же, что и вчера.
Испытующе смотрит
из-под кроны кора.
Только что ей увидеть,
кроме тощих ворон
над костьми погребенных
в красноземе времен?
Точит жаркую гальку
камнеед-солнцепек.
День за днем утекает
в раскаленный песок.
Над камнями развалин,
что в сосновом бору,
проливается ливень,
расплодив мошкару.
Отражаясь в заливе,
как в оконной слюде,
бродят тени-дикарки
по колено в воде.
И покуда на берег
не пригонит тайфун
миллионокопытный
разъяренный табун,
этот вымерший остров,
словно город на дне,
стекленеет в упруго-
голубой тишине.
Безымянные тени
чертят древнюю пыль,
будто в память вплывает
позабытая быль.
Северо-восточный ветер
Растревожив деревья,
рыб, паруса и палатки,
Север и Восток при поддержке своих водяных бригад
приводят в действие план земных беспорядков:
и вторгаются всюду обезумевшие табуны ветра,
табуны ветра с криком единодушным, осенним,
волки и безутешные матери,
и обрушиваются стены ветра от постоянного землетрясенья;
невнятная дробь его бродячего барабана,
его море — призрак, быстрый пожиратель леса и пашни.
Все толпы ветра, соединившись,
размахивают в волненье своим знаменем страшным.
Гнев сквозь мили летит, одиночество стало ветром,
несущимся отчаянием все пространство изрыто.
О, огромный космический конь,
топчущий века невидимым копытом!
Ветер, пахнущий трупом, рыбой, маком,
ты качаешь свой груз землетрясений и эпидемий.
Старый пастух пространства, твой ледяной кнут,
свистя, возвещает: смерти приходит время!
Беги без конца, земной метеор-бродяга,
по полям и по городам, а выход везде завален.
Твое безмерное усилие
разламывает и обрушивает, — о, архитектор развалин!
Одиночество и чайка