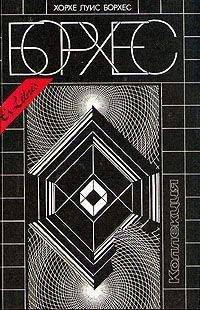Хорхе Андраде - Вести с моря и суши
Эквадорец у подножия Эйфелевой башни
Стальное дерево над плесом века,
под синей кроной размером с небо.
Насквозь прогрызли автомобили
железный комель огромной сейбы[2].
Глаза к лазури спешат взобраться
по переплету железной рамы.
Над черепичной долиной кровель
качает шеей стальная лама.
В прозрачных складках воздушной ткани,
в подвесках бликов белее пены
выходит башня ночной порою
на звездно-черный песок арены.
Пробив локтями созвездий млечность,
стальная мачта таранит вечность.
На ней растянут шатер незримый
на перекрестке ночной вселенной.
Рисуют контур ее галактик
огни и звезды попеременно.
Зачин астрального алфавита,
стальная башня в зенит воздета.
Надежда, вставшая на ходули,
ты — гимн железу, триумф скелета.
Клеймо для тучной коровы-тучи,
а веку — вышка сторожевая.
Ржавеет тихо в прибое ветра,
в прибое неба стальная свая.
Еще раз об окнах
Окно — это грань графина,
который всегда наполнен
парным молоком рассвета
или лимонным полднем.
Как светится синеглазо
хрустальная эта ваза!
О чистый ее передник
дробятся лучи рассвета
расцвеченным опереньем.
А белый крест переплета —
как мраморное надгробье
лиловой ливневой туче,
взирающей исподлобья.
Зеркало в столовой
Бродит луч по лекалу
серебрящихся точек.
Это чертит в столовой
наше зеркало-зодчий.
И крылом стрекозиным,
слюдяною полоской
интерьер рассекает
невесомая плоскость.
Будто циркуль мерцанья
измеряет предметы
мерой дробного света.
Биссектрисой стеклянной
перебиты графины,
и стекает, сверкая,
на пол струйка рубина.
Словно в пруд, силуэты
в это зеркало вмерзли,
и беседуют тихо
блики азбукой Морзе.
Рвется свет, как петарда
или протуберанец.
Луч ресницами гладит
грани лаковый глянец.
А по диагонали
вертикального плеса
отражения стынут,
будто знаки вопросов.
В мире, одушевленном
излучением смысла,
бродят тени предметов,
словно зримые мысли.
За зеркальной границей
очень четкие грани:
соль познанья — солонка,
уксус — воспоминанья.
Виноградные льдинки —
это наледь дыханья.
Кофе — это раздумье.
Сахар — белый архангел.
Девушка из Панамы
В бухте лоснится лунное масло,
коже смуглянки вечер сродни.
В сумраке дальнем судно увязло,
в глянцевом море моя огни.
Черные лица мелом-улыбкой
кто-то внезапно разрисовал.
Это мулатка поступью зыбкой
пересекает черный квартал.
Лед о стаканы бьется со звоном.
Груди упругой ходят волной.
Веер соседки пахнет лимоном,
пахнет ванилью душ ледяной.
В черной пролетке черная дама.
Кучер смеется, черный как смоль.
На черепице чертит реклама
четкую надпись «Клуб Метрополь».
Зала казалась больше вокзала.
Публики было — не продохнуть.
То ли мулатка вся танцевала,
то ли же только бедра и грудь.
Нет, ворожило, а не плясало
тело мулатки под барабан.
На берегу голубого бокала
зрел у меня с ней краткий роман.
Обнаженная девушка
Пульсом и дрожью
в кровь врываясь,
ты претворяешь
время в радость.
Запах забытый память тревожит:
детством пропахла
юная кожа.
Запах ли моря?
Запах травы ли?
Запах, пронзивший
душу навылет.
Руки — скрещеньем солнечных линий —
глаже, чем галька,
слаще, чем дыня.
Ангел, горящий с песнею белой
в белом костре
обнаженного тела.
2°48 южной широты
Желтая пристань. Как самородки,
лежат ананасы — некуда класть.
К свае привязана желтая лодка;
в лодке — простая рыбачья снасть.
Бочонки джина — горою шаткой.
Сложены ящики кое-как.
Укус гадюки на голой пятке
всем демонстрирует старый моряк.
Груды бананов возле сарая.
Пахнет медом табачный лист.
Из бочки высунулся, зевая,
еще не проспавшийся в ней метис.
Лишь в полночь стихнет многоголосье,
и желтая пристань вроде бы спит,
и только бродят по ней матросы
с глазами, цветом в бесцветный спирт.
Гамма
Ветер корсарский нить разговора
вырвал у нас и унес на Азоры.
— Видишь, — сказал я, — позолотили
ночь океана рыбы-светильни.
Тихо коснулся коралла губами…
Судно Азорскими шло островами.
Плыли, качаясь, глаза ее рядом.
Юные пряди плыли, ныряя.
Так и осталось: очи-озера
на широте полуночных Азоров.
Ночной порт
В бочках дубовых вина угрюмы:
очень печально им на причале.
Бочки мечтают ночью о трюмах.
Пахнет щемяще устрицей ветер.
Полночь — рыбачьи мокрые сети.
Спиннинги-мачты ловят созвездья;
бакены-лодки в лунном асбесте.
Вспыхнул фонарик на полубаке,
взвившись, как факел рыбы летучей;
льются чешуйки света во мраке.
На горизонте контур шаланды, —
словно команда сгинувшей шхуны
переправляет смерть контрабандой.
Судьба
Глядя на мачты из-под ладони,
корпусом всем подавшись вперед,
где-то в Голландии незнакомой
меня незнакомая женщина ждет.
Пристань, каналы в каменных плитах,
мельница с черным крестом на горбу
выйдут навстречу, перевернувши
так неожиданно мне судьбу.
Старому саду стану хозяин,
станет хозяином мне огород.
Буду ласкать фруктовые губы,
глядя, как яблоней сын растет.
С трубкой, набитой травой забвенья,
выучившись вечера коротать,
утром однажды взойду по трапу
на мокрую палубу я опять.
Глядя на мачты из-под ладони,
корпусом всем подавшись вперед,
мне с рубежа незабытого мола
женщина молча косынкой махнет.
Клара фон Рейтер
Как яблоко в вазе, сиропом облитый,
твой голос взлетает на пятый этаж
в прозрачном кубике лифта.
Метро укачало подземное ложе,
но в темном тоннеле вагон озарен
свеченьем твоей апельсиновой кожи.
Автобус струит на проспекты столицы
под взмахом твоих серповидных очей
твои золотисто-ржаные ресницы.
И легче, чем тонкая нота колибри,
в стеклянной тетради крутящейся двери
мелькает твой профиль — изящный экслибрис.
Одна из версий земли