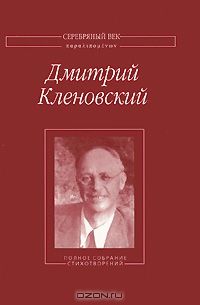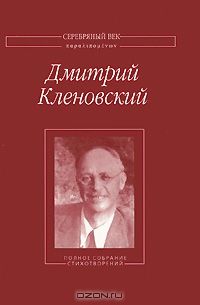Александр Алейник - Другое небо
скрипач
IНачинаться должно, как сказка на идиш:
то есть только за ворота вечером выйдешь —
попадаешь сразу в фиолетовое небо,
там звезда — направо, а луна — налево…
…и поплыл, как облако, не разбирая дороги,
над трубой и берёзой поджимаешь ноги,
— Эй! — кричишь скрипачу, — Ты зачем на крыше? —
а он водит-водит смычком… тебя не слышит,
потому что твой голос заслоняет скрипка,
и качается небо вокруг, как зыбка.
Он на витебской крыше, продавленной небом,
а звезда — направо, луна — налево…
он зажмурил веки, его от музыки отвлекают
птицы и люди, — те и другие летают.
Но если бы только они!.. ещё летит и телега
и лошадь летит, вроде гнедого снега.
А у лошади в животе, копытцами вверх летит жеребёнок…
Что тут поделаешь, он и сам летает с пелёнок,
всё это началось так давно (посмотри хоть в «Бытие», хоть в «Числа»)
и летать он раньше, чем ходить, научился.
К нему тут привыкли все: колодец, коза, корова.
Кобыла и балагула. Ночная звезда. Иегова.
Он отталкивается от травы. Он восходит без лестниц
в шатающееся небо. Ведь оно без него исчезнет.
Он понимает мир, как младенец сосок багровый,
с звёздочкой молока, с мычащей в яслях коровой,
с курами на дворе, козой, корку жующей,
с Господом Богом на небе и на иконах живущим
кротким Христом-Спасителем, солдатом, пьющим с подружкой;
она у него на коленях, он — с недостаточной кружкой,
с умной рыбой в воде, с невесомым раввином
между звездой и луной, над местечком родимым…
Знает скрипач, что нужно нам для полёта простого,
вот он сидит на крыше, там где был нарисован.
* * *
Зазвенел звонок, то ли школьный, то ли ларёк ограбили,
то ли кино уже началось, а лимонад не допит,
и плывут облака над дворами, кресты над кровлями…
город в сентябре похож на шар воздушный.
Листья влетают ко мне в растворённую форточку,
листают стихи, застрявшие в каретке
пишмашинки «Москва», задирающей жестяную горсточку
к ненадёжному потолку на Малом Каретном.
Неохота вставать. Бриться. Мои свидания
в последнее время назначаются посредине
медного провода. Узкого места, куда не
придёшь без электричества телефонных линий.
Это, наверное я накрутил. Ну и ты, быть может.
Наши регистры гуляют, как Бойль с Мариотом.
Клёны швыряют листья в летящие лужи.
Бульвар похож на ветерана с янтарным аккордеоном.
* * *
Здравствуй, смотритель
жёлтого-рыжего-чёрного.
Ветра сырого. Воспалённого горла
неба нечёткого.
Смотри, голая
роща унижена.
Отворачивается, стыдливая.
Земля голодная, чернокнижная,
своё варево торопливо —
жизнь — дожирает, неопровержимо приближена.
Так ли
с нами будет:
сон приснится, раздрызганный в капли,
в землю вопьются (на лицах пудра)
прихорошенные — в чрево её перемалывающее, полумёртвое,
червивое, вскрываемое лопатой,
в мокрое корье, в комья перетёртые,
в грубую крупу,
подаваемую ко рту
распадом.
* * *
Мы живём в эпоху торжествующих кретинов.
А букашки ползут наклоняя травку.
От того что я вижу может вырвать.
Особенно чётко на беленькую бумагу.
От меня отшатываются при встрече.
С таким лицом не подходят к дамам.
Видно в нём начертано то «далече»,
где на весь свой век нахлебался сраму.
Журналист зажужжал — заработал денег!
Щелкопёр натрещал — 30 тыщ курьеров!
Разбудите архангела Гавриила.
Я давно не слышал чарующих звуков.
* * *
Человек падает под горизонт,
вдруг… ни крика, ни всплеска, —
всё вспоминаю его лицо
без воскового блеска,
скоропожатье его руки —
сухонькое касанье,
круглые веки — порх — мотыльки
блёклые над глазами, —
слышал теперь синегубка ему
стала подружкой милой,
глупо всё вышло, не по уму,
с этой его могилой, —
а хороша она — не хороша,
не распознать сквозь дымку,
с ней неодиноко лежать,
навзничь вечность в обнимку, —
вот она кровная с миром связь
семени с прахом, влагой,
то что питает тоску и страсть,
обречённой отвагой,
всякой земле он песка родней,
глине любой, подзолу…
в каждой былинке теперь
звучней арфа поёт Эола.
* * *
Протопопа упрямого тёмная речь
продирается к небу,
дабы небо стеречь.
Принимая из рук палача крохи хлеба, —
пировать на дыбах, — да вроде юлы на колы,
быть на дыбу насаженным,
не изрекая хулы —
но хвалы Богу доброму — абы — Богу-то страшному.
Так отвергни, — ему говорят, — Отступи!
Либо пусть явит чуда! —
и из ямы, в червях, протопоп возопит, —
— С кем же буду тогда… с кем буду…
* * *
Просыпайся, дружок, просыпайся.
Голубые глаза открывай.
Я тебя, лейтенантик запаса,
подсажу в ленинградский трамвай.
Через день начинается лето,
набухают любовью сады.
Небо птицами насквозь пропето
и всплывают дворцы из воды.
Мне с тобой, рядовому бродяге,
часовому болезной луны,
в невоенной шататься рубахе
по зелёным траншеям весны.
И кружа над Невой и мостами
в неотвязном пуху тополей,
слышать будущего нарастанье
в легкомысленной жизни моей.
Будто трубы трубят золотые
над землёй высоко в тишине,
где мы ходим с тобой, молодые,
по одной ленинградской весне.
Ты, моя докторица большая,
от печалей моих излечи
и к трезвону второго трамвая
прицепи от бессмертья ключи.
новые берега
…повернулась плечом и уткнулась в плечо,
лоб был влажен, хотеть не хотелось ещё,
но ещё обвивала меня горячо,
дышишь… бедный скелетик… костяная нога…
жизнь, конечно, кромешна, разлука туга,
входим на вдохе в новые берега,
свет смежает глаза, жизнь наощупь бредёт,
за зазором зазор тёплый выдох прядёт
черносветлый узор — коридор — так вперёд…
В влажные клеммы любви — вход, распалённый сердечник,
в спас и замес на крови вдвинуты горла и плечи.
Нас заплетает узор рёбер, коленей, лопаток.
Выступ вступает в зазор — в правильный миропорядок.
Кто там, смешав нас, следит сверху за нами бессонно,
грудь прижимая к груди, гонит в сосудиках солнца,
в рысь замираний, рывков, так вылезают из кожи —
вон из костей, из гребков рук к прошивающей дрожи.
Вобранный воздух во ртах вогнут в гортанные трубы,
в вырытый ход для крота в общей норе носогубой.
Головы в душном дыму, в палево-голом угаре…
Нечего делать уму в сомкнутой в целое паре.
Ева, Ревекка, Рахиль, Лия, Эсфирь, Магдалина —
ветра горячего пыль, света светящая глина,
выгиб ребра моего, выломанного из рёбер…
Мне хорошо, на него солнце Эдема угробив.
Я не руками, ртом касался,
груди мерцающей и плеч,
подставленных… и свет мой освещался,
но как немел язык, темнела речь.
Едва ли сознавая, создавали
мы что-о нежное, чему названий нет…
Лежали улицы — карандаши в пенале
да детский дребезжал велосипед.
И губы целились и локти улетали,
так птицы бедные кружат у тайных гнёзд,
когда мы ненадолго замирали,
и слышали… как мир огромен, прост.
…до сердцевины кости
состоять из кого-то другого
глазом косить на себя не узнавая себя
вот мы какой головоломкой для Бога
стали перепутавшись снами
и явью и пальцами и
серединами
тел
головами в бездонные стороны ночи
в карие-серые-синие очи
всех кто до нас занимался вот этим
дивным
в котором я потерял твой
ты мой
колошматящий сердцем предел
Бьются пойманной рыбой, но сеть всё не рвётся, не рвётся,
тянется только густая её ячея,
рот достаёт, как звезду на ведре, из колодца
горла, какое-то сиплое «я-а-а»,
лучше рычать… и по клейкому телу,
вытянуть этот рык, этот вой…
Боже ты мой… глядят в пустоту обалдело
веки слепые, ресницы по краю, под вздрагивающей слепой скорлупой.
…здесь мы не умерли и нас не настигла
наша слепая судьба, но вроде тигля
для алхимических опытов по чернокнижью
нашего времени, — дни переплавят и выжгут
плоть, что болела, любила, хотела
то табаку, то вина-винограда, то тела, —
и то ей больно, то жарко, то колко, то нежно…
вид наш посмертный скелетом и черепом брезжит
через неё, через червям в обработку,
то что ласкала она, что целовала в охотку.
Выплави что-нибудь вечное, что не растает,
из того, что потом лопухом зарастает,
а как живёт — всё то рыщет любовного лона,
на побережьях бетонных под нервным прибоем неона.
Вот где бессмертье мгновенное наше —
миг пробиваемый вглубь — в позвоночник времён,
тьма обернулась — голою — шасть из рубашек —
в искрах бенгальских на икрах под резким ребром.
Резвые мы и нарезаны зверски ломтями,
жри нас бессмертье, за груди кусай, за мослы,
мы растолкаем друг дружку, подвздошьем, локтями,
мы не в такие ещё заплетёмся узлы.
Вещая буква ночей, осьмилапый ероглиф сопящий,
кто прочитает замятое, потное это письмо,
а запечатает, — бросит в голубенький ящик,
чудная вещь… оно адрес поставит само…
Тот кто нас надышал на стекло мировое,
на туманный налёт, а потом прочертил
наше ранимое тело живое,
далеко отошёл, да и нас погулять отпустил.
Всюду чудится глаз Его, мнится слух Его напряжённый,
даже когда неподвижно лежим, вроде спутанных змей, —
жжётся Он… что ж, зализывай край обожжённый,
как дитя неразумное, от костра отойти не сумев.
И чем дольше живём, тем становится зрение чётче,
будто вышел из пламени через редеющий дым,
проясняются улицы, ночи, шумящие светлые рощи,
может быть, наконец, мы лицо Его в них разглядим.
романс