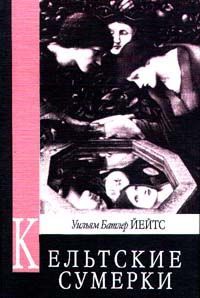Уильям Йейтс - Переводы из Уильяма Йейтса( Григорий Кружков) Великое колесо возвращений
В системе Йейтса Великое Колесо, разделенное на двадцать восемь секторов, или фаз (лунное число) изображает и эволюцию человеческой жизни, и путь души в ее перевоплощениях, и ход мировой истории. Движение по кругу ведет от первой фазы, полной объективности, к пятнадцатой фазе, полной субъективности, и затем вновь возвращается к своему началу, к доминации объективного (природного) начала. Эта теория, в детали которой мы входить не можем, поэтически выражена в стихотворении "Фазы луны".
Робартис. Когда же перемесится квашня
Для новой выпечки Природы,- вновь
Возникнет тонкий серп – и колесо
Опять закружится.
Ахерн. Но где же выход?
Спой до конца.
Робартис. Горбун, Святой и Шут
Идут в конце. Горящий лук, способный
Стрелу извергнуть из слепого круга –
Из яростно кружащей карусели
Жестокой красоты и бесполезной,
Болтливой мудрости – начертан между
Уродством тела и души юродством.
Йейтс верит в пифагорейское учение о странствиях души и ее инкарнациях – и строит классификацию людей по типам, в зависимости от фазы на Великом Колесе. Человек оказывается вовлеченным в два разных цикла: один связан с возрастом, другой – с перерождениями его бессмертной души, проходящей двадцать восемь кругов таких же фаз.
На самом деле, он участвует даже в трех циклах, ибо проходит вместе с человечеством по кругу земной истории: ее период, по Йейтсу, равен примерно двум тысячам лет и тоже связан с борьбой объективного и субъективного начала. Нынешний цикл начался с рождения Христа и достиг высшей объективности в эпоху Ренессанса; наше время близко к окончанию цикла, вот почему так распространились нивелирующие личность учения – социалистические, коммунистические и прочие. С этой точки зрения трагедия самого Йейтса – это трагедия человека героической, индивидуальной воли (он относил себя к семнадцатой фазе) в период размывания личностного начала – несовпадение фаз. С течением лет к этому прибавилось и старение – несовпадение всех трех фаз. Ущерб века, ущерб тела – и полнолуние души.
* * *
В 1923 году Йейтсу присуждается Нобелевская премия по литературе – жест, как часто бывает у Шведской Академии, не лишенный политической подоплеки – своего рода приветствие Ирландской республике по случаю обретения ею независимости. Но Йейтс с лихвой отработал свою "нобелевку". Лучшие стихи он написал не до нее, но после. Сборники "Башня" (1928) и "Винтовая лестница" (1933), наряду с "Последними стихами", могут считаться вершинными достижениями поэта. Особо хочется сказать о цикле "Слова, возможно, для музыки". Говорят, что протопим ом Безумной Джейн послужила Чокнутая Мэри – юродивая, жившая неподалеку от имения леди Грегори. Но эпический образ старухи, вспоминающей своих былых любовников, – гордой и нераскаянной – приводит на память прежде всего "Старуху из Берри" – одно из лучших стихотворений древнеирландской поэзии:
Вы, нынешние, сребролюбы,
живете вы для наживы,
зато вы сердцами скупы
и языками болтливы.
Но те, кого мы любили,
любовью нас оделяли,
они дарами дарили,
деяньями удивляли. ‹…›
Бывало, я мед пивала
в пиру королей прекрасных;
пью ныне пустую пахту
среди старух безобразных.
К "яростному негодованию" (слова из эпитафии Свифта) его толкало не только отвращение к материализму эпохи в целом, но и глубочайшее неудовлетворение ирландской жизнью и политикой. Он убедился, что все жертвы, принесенные на алтарь ирландской свободы, были напрасны. Достигнутая в стране демократия оказалась "властью черни", безразличной к духовности и культуре. "Если эта власть не будет сломана, – писал он, – наше общество обречено двигаться от насилия к насилию или от насилия к апатии, наш парламент – портить и развращать каждого, кто в него попадет, а писатели останутся кастой отверженных в своей собственной стране".
На этом фоне понятней тот эпизод 1934 года, когда Йейтс проявил интерес к "синерубашечникам" генерала О'Даффи. Он клюнул на антибуржуазную демагогию фашистов и даже написал для них "Три маршевых песни", где были такие слова: "Когда нации лишаются верховодов, когда порядок ослабевает и растет раздор, приходит время выбрать добрый мотив, выйти на улицу и маршировать. Марш! марш! – как там поется? О, любые старые слова подойдут". К счастью, уже через несколько месяцев Йейтс разочаровался в О'Даффи с его дешевым позерством; он понял, что чуть было не влип в объятия еще худшей черни, "ревущей у двери" – и зарекся играть в политические игры.
Йейтса называют человеком поздней жатвы. Выпуская в 1937 году второе издание "Видения", он писал другу: "Не знаю, чем станет эта книга для других, – может быть, ничем. Для меня она – последний акт защиты против хаоса мира, и я надеюсь, что еще десять лет смогу писать, укрепившись на этом рубеже". Как это похоже на строки юного Китса, восклицавшего в 1917 году: "О, дайте мне еще десять лет, чтобы я мог переполниться поэзией и свершить то, что мне предназначено!" Судьбы дала Китсу только три года. Еще меньше времени было в запасе у семидесятидвухлетнего Йейтса. В декабре 1938 годы он пишет свою последнюю пьесу "Смерть Кухулина", а через две недели неожиданно заболевает, и 26 января 1939 года наступает развязка.
Эта была красивая, героическая кончина – смерть непобежденного. До последних дней Йейтс греб против течения, пел не в лад с хором. В глазах авангардных, политически ангажированных поэтов тридцатых годов он выглядел нелепым анахронизмом. Достоинства его стихов признавались со страшным скрипом; его проза и критика начисто отвергались, пьесы считались провальными, философские взгляды – вредным чудачеством. Так что когда Уинстен Оден, признанный лидер нового направления, написал элегию на смерть Йейтса (потрясающей силы вещь – настоящую фугу в трех частях), это многим показалось удивительным.
Но ведь и эти стихи полны знаменательных оговорок. Автор считает, что Время в конце концов "простит" Йейтса – за "умение хорошо писать". Характерно и название статьи Одена, опубликованной в 1940 году: "Мастер красноречия",- в ней он утверждает, что Йейтс "был больше озабочен тем, как звучит его фраза, чем истинностью идеи или подлинностью чувства". И безапелляционно, как приговор: "отсутствие подлинной драмы никакой театральностью не прикроешь".
Особенное раздражение вызывала "чокнутая псевдофилософия" Йейтса. Взвешенней других молодых высказывался, пожалуй, Луис Мак-Нис, который даже был готов допустить, что Йейтс не настоящий мистик, а лишь человек, обладающий мистической системой ценностей, "а это совсем другое дело и вещь sine qua non для всякого художника".
И конечно, возмущала подозрительная аполитичность поэта. В годы перед Второй мировой войной каждый обязан был выбрать свою сторону баррикад. Но ему не внушало доверие ни одно из правительств. В одном из частных писем Йейтса 1936 года сказано: "Коммунисты, фашисты, националисты, клерикалы, антиклерикалы – все они должны быть судимы в соответствии с числом своих жертв".
Йейтсу выпала длинная дорога. Если в молодости он и был эстетом, построившим себе башню из слоновой кости, то в дальнейшем, как пишет Ричард Эллман, "из-за недовольства соседей, а отчасти из-за собственных сомнений в ее прочности, он выбрался наружу, в мир, и добыл там менее изысканные материалы, которыми постепенно заменил всю слоновую кость, до последнего кусочка".
Но это не значит, что Йейтс готов был поступиться своей юношеской мечтой. Те "спасительные слова", которые впоследствии произнесет И. Бродский и которые в письмах к нему дважды повторит Ахматова: "Главное – это величие замысла" – были спасительными и для Йейтса.
Он оставался цельным художником несмотря на все свои противоречия и сомнения. Он не скрывал их, он вообще ничего не хотел скрывать: жизнь поэта, считал Йейтс, есть жизненный эксперимент, и публика имеет право знать о ней все. Шекспировская эпитафия: "Проклятие тому, кто потревожит мои кости",-не про него писана.
Он положил на одну сторону весов свою поэзию, а на другую – свою судьбу, и обе чаши таинственно уравновесились. Любые обстоятельства повседневности значительны, когда они освящены великой целью. В эпоху, когда прагматизм старается сделать поэта затейником, работником досуга, загнать сверчка искусства на предназначенный ему шесток,- архимедово усилие Йейтса перевернуть мир и утвердить его на нематериальной точке опоры заслуживает восхищения.
Другие пути элементарней. Легко, например, предаться истерике или показать миру кукиш. Выход неплох – для любителей игры в поддавки. Есть и широко распространенный на Западе метод "честного реализма". Но все это, по выражению Кэтлин Рейн, лишь "втирание соли собственного отчаяния в рану, оставшуюся от ампутации духовной составляющей жизни".