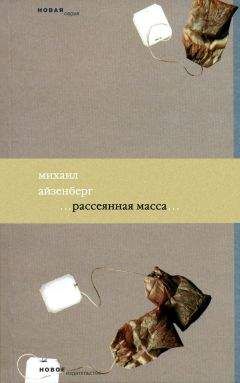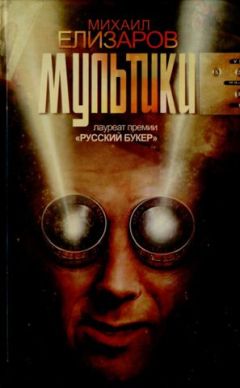Михаил Айзенберг - Случайное сходство
2
* * *Посмотри, какой убыток:
набросали черных ниток,
накидали дымных шашек,—
дым сегодня не рассеется.
Кто теперь признает наших
и в одном мешке поселится?
Птицам выдали секрет,
воробью и жаворо́нку:
наших не было и нет.
Пыль стеклянная вдогонку.
Как же так?
А ты, мой свет?
Говорю как на духу,
только словом петушиным,
извалявшимся в пуху:
ты не ешь меня, лиса!
и видаться разреши нам,
подниматься в небеса;
по знакомым колеям
пролетать воздушной ямой
через море-окиян
до нее, до окаянной.
Там две девочки, родня.
Там осенний воздух сладок,
словно только для меня
берегли его остаток.
Время – черный передел
между первыми, вторыми.
Ты на лавочке сидел?
Хватит, лавочку закрыли.
Продолженье под замком.
Даже воздух предпоследний
отпускается тайком,—
все быстрее, незаметней,
и уже сухим пайком.
Ангел мой, глаза закроем.
Ночь проходит сквозь ресниц,
поднимает рой за роем
у невидимых границ.
Обойти ее отважусь,
тяжестью оборонясь.
Отчего такая тяжесть?
Где ты, ангел?
Что ж ты, князь!
Там, за болевым порогом,
перейденная стократ,
все равно стоит под током.
Что ж ты, братец!
Где ты, брат?
Сна печального глоток:
много дыма без огня,
но стреляли холостыми.
И касается меня,
облетая, холодок
из ночной его пустыни.
И во сне садятся на кровать,
на мою кровать чужие люди;
затевают карты раздавать.
Те, кого и нету на земле,
прячут в сновидение мое
знаки неопознанной потери.
Но душа чурается ее.
И напрасно в тонкой полумгле
светят их серебряные тени.
потерпи меня земля
подержи меня водица
говорят душа как птица
что ей мертвая петля
пусть поучится тогда
а пока гуляет праздно
не сгорая со стыда
что уже на все согласна
Как облакам высоким не радовать, пока
не Шилов, не Посохин рисуют облака.
Уже Москву и Питер на мельницу свезли.
А дальше увезите на самый край земли.
В архиве снежной пыли утонут города,
но засияют шпили, как будто изо льда.
В бескрайней черной раме надежно от беды
упрятаны в спецхране для вечной мерзлоты.
Город стал пятном на карте,
но сегодня – ни в какую.
Надевает на закате
словно шкурку дорогую.
Стенка не идет на стенку.
Тень ведет одна другую
к удаленному оттенку.
Жаль, не шкурами торгую.
Понимающий в пушнине
на прицеле город держит.
Освежует, душу вынет,
ручку правую потешит.
Двойник
Двойнику на полдороги
путь укажет палиндром.
Пусть земля одна из многих,
отплати и ей добром.
Подари ей мелких денег,—
вдруг обучится скорей
в воскресенье быть добрей,
чуть живее – в понедельник.
И чужая сторона
не покажется спросонья
как равнина из окна —
шкура мертвая бизонья.
До последнего видна.
Как на пляже между делом,
между птичьего говна
на песке заледенелом
умирая, загорая,
мелкой денежкой играя.
Если кто исчез удачно,
прежде всякого суда,
для того и жизнь прозрачна,
как холодная вода
из Байкала, из фонтана,
из ручья под лопухом,
из стеклянного стакана
со щербатым ободком.
А могла казаться черной,
если сделана вчерне.
И читатель, заточенный
в кабинетной тишине,
затоскует о своем
над бумагой потаенной:
«Кто я здесь? Солдат наемный?
Склад, сдающийся в наем?
Назови любое слово,
ведь название всему
никакое не готово.
Не поверишь: никакого.
Никакое. Никому».
Студент-то с ума сошел: воображает,
что сидит в стеклянной банке, а сам
стоит на Эльбском мосту и смотрит
в воду. Пойдемте-ка дальше!
Э. Т. А. Гофман, «Золотой горшок»Где-то я на время спятил,
что-то Гофман сочинил.
Сколько брошенных занятий,
столько в черепе чернил.
Сквозь чернильные протечки
различается вполне,
как с моста у мелкой речки
тень колеблется на дне.
Лучше б дело кончить миром.
В мягком свете на заре
по воде идет пунктиром
азбука одних тире.
В самолете
В замедленном повторе
толпой обнесена
на крайнем мониторе
мелькнувшая спина.
Я чувствую, что тело
теряет высоту,—
межу перелетело,
пересекло черту.
И ночь себя мешает
как чёрную лапшу.
Узнать тебя мешает.
Но я тебя прошу
неразличимым светом
во тьме не утонуть.
А сверху и Манхеттен
похож на Млечный Путь.
Неровный, чуть помятый строй
цветов оранжевых и красных.
Ночница с пепельной каймой
в ее метаниях напрасных.
Но тишина уже не лечит
щекотку легкую в кости.
Как быстро наступает вечер!
Пора часы перевести.
Давай на память сохраним:
неясный день в простое летнем
листом не дрогнет ни одним,
как в перемирии последнем.
И в чаще слухов без числа
еще почувствовать не смеем
беду, что мимо проползла
невидимым воздушным змеем.
Может, это такое правило —
правой, левой руки?
И на приступ идет окраина,
но водой из Дунай-реки?
А у нас окраина. Сквозь туман
не видать спасательную команду.
Дождь гудит как бурят-шаман,
повторяет мантру.
Тучи строятся, как слепцы
на невидимую поверку.
Заплетают веревочные концы,
что спускают за нами сверху.
Кто напомнит, отчего я
загадал, что при утрате
костное на лучевое
обменяют бога ради.
Нет наставника в природе.
Да и кто ему поверит,
если он себя находит,
как волна находит берег.
Объясненье костяное
никому не пригодится,
но однажды в гуще зноя
странный холод возвратится.
Где ответчик и лишенец,
там и я за ними следом,
признавая мертвый шелест
заблудившимся ответом.
Так говорит держава
Так говорит держава,
светлая птица Сирин:
«Я в обоюдоострых
твердых своих когтях
вас на лету держала.
Я ваш последний воздух
в славе моей и силе,
здесь и на всех путях».
Тянет прожить безбедно,
как на лугу зеленом —
греться, валиться набок
в наигрыше, в кураже.
Но с переменой ветра
сразу несет паленым,
входит звериный запах,
и не вздохнуть уже.
Подходит к беженцу огонь
и говорит ему:
будь ты тихоня из тихонь,
но я свое возьму.
Ты новый день и новый срок
не мерь на свой аршин —
не тот пришел к тебе ходок,
не прежний страх прошил.
А новый страх – природный газ
на дне земных пород —
всегда найдет змеиный лаз,
пробьет грунтовый свод.
Пускай осаженный стократ,
ползущий из глубин,
из тайных пор идущий смрад.
А он неистребим.
Из монотонных лет, хоть я забыл их,
карманный сор просыпался в прорехи.
И в памяти от прежних дней унылых
еще идут магнитные помехи.
Но лишь теперь она перехватила
какое-то шу-шу за краем слуха —
там со старухой шепчется старуха,
и пауку сигналит паутина.
Угадайте, что случилось с нами:
бабочки глядят на нас волками,
и паук идет из рукава.
Сон с непривлекательным финалом.
Если жизнь и вправду такова,
я хочу быть серым кардиналом.
И тогда, не меряясь чинами,
нам судьбу придется повторить:
собираться вместе вечерами,
голос понижать, сдвигать стаканы,
глиняные трубочки курить.
А взгляд так светел, переливчат,
речными искрами горит.
Боюсь, она еще накличет
в подруги донных нереид.
Иного зрения отведав,
неузнаваемы почти,
игрою мелких самоцветов
переливаются зрачки.
Живут на радужном отрезке,
на помраченной глубине,
в порхающем недужном блеске,
уже безумные вполне.
3
Как человек переменился за год,
а почему, спроси у лесников:
не то в ночи наслушался волков,
не то в лесу наелся волчьих ягод.
Он думает, что первым от хвоста
ему теперь назваться не мешало б,
но закрывает книгу жалоб
и начинает с чистого листа.
На белый свет выходит, новичок,
как из берлоги, как из черной бани,
и в пустоте зубами щелк да щелк,
все щелк да щелк железными зубами.
Март-апрель, а по углам зима,
но сырая, пахнущая дерном.
Талый снег спускается с холма
в осветленном воздухе просторном.
Сходит дымовая пелена,
но туманом выбелен подлесок,
и земля едва еще видна
черная в проталинах, порезах.
ночь за окном
дождь за окном
дерево за окном
говорящие об одном
на языке родном
на четыре свои угла
ладит шатровый верх
память черная от прорех
позабывшая где была
Где сознанье в пагубе, в беде
на краях стирается нетвердых,
все темнее светит солнце мертвых,
и глаза привыкли к темноте.
Но и там выпрашивать ответа,
отражая темные лучи,
не пристало путнику в ночи
на дорогах нитяного света.
Как придет пора ночная,
защебечет вразнобой,
неизбежно начиная
силой мериться с тобой.
За проводкой, за побелкой,
между полом и плитой
самой мусорной и мелкой
заправляет темнотой.
Убеждает за плитою,
что гроша уже не стою
со своею правотой.
По сусекам, для прикорма,
как кухонное зверье
в шустрой панике проворна —
ну, куда мне до нее.
Это, солнышко, дорога в никуда,
сообщение о ком-то ни о ком.
От песочного, слоеного труда
ядовитая слюна под языком.
Всё глядели, как усталая вода
повторяет их короткие глотки,
обитатели народного пруда,
и не рыбы, а живые поплавки.
Обязательно стояли над душой
доброхоты с папиросками во рту.
Вспоминаешь этот утренник чужой,
словно он тебе написан на роду.
Где мы были? Нас и не было почти.
Взяли марки да обменные значки.
Дети-демоны сошлись на кулачки
разорвать себя на мелкие клочки.
Ой-ей-ей говорит над рекой
потемневшего неба известка.
А тоску, чем держать за щекой,
положи в холодильник «морозко».
В темноте домовая сосна
чуть слышнее запахнет гвоздикой,
лишь бы утренний свет до окна
не тянулся в пыли полудикой.
Заручись заповедным углом
для короткого что ли озноба,
с чем злосчастье идет на поклон,
а потом возвращается снова
к причитаньям немой широты
и к ручью за бобровой плотиной
с желтоватой нетающей льдиной
на подкладке зеленой воды.
И ночь с открытыми фрамугами,
с ее приливами, отливами
полна невидимыми звуками
неравномерно торопливыми.
Их сообщения подробные
одно к другому не приложатся,
вот почему края неровные
стригут невидимые ножницы.
Высоко над Кара-Дагом
светел каменный плавник.
Здесь по складчатым оврагам
каждый дорог золотник.
А сухие травы жестки
для дневного полусна.
Открывается в подшерстке
золотая белизна,
входит в ткань его волокон
и в состав его пород.
Мертвый царь в горе без окон
ест на золоте и пьет.
Напрасно верит свет ночной,
что он сегодня в господах —
один танцует на стволах
как луч фонарика ручной.
Сквозь ветки черные дрожа,
холодным пламенем полна,
переливается луна,
сияющая госпожа.
Здесь нет различений: что черные тени,
что белые пятна.
По лунному свету находит смятенье
дорогу обратно.
Рассудок при нем спотыкается, неук,
дичает привычка.
Любому подобен, в толпе однодневок
стоишь, невеличка.
В краю невидимок, слепом обороте,
в окладах бесцветных.
Ночной разговорник как сон о природе
развешен на ветках.
Выходит луна, затемненье раздвинув,
и зев ее львиный
в проталине светлой, чей обод малинов,
висит над долиной.
Остановится купальщик
на виду у старых лип.
В нем почивший рисовальщик
повторяет их изгиб.
Вслед за ним и лес еловый
позади речных лугов
повторяет чуть медовый
цвет закатных облаков.
С этим отсветом медовым
на изнанке восковой
я живу на всем готовом
возле ямы долговой.
Быстро тает вечер летний
точно мед под языком,
и становится заметней
долг, записанный мелком.
Путник, постой! Ты просмотрел
весь травостой —
брошенных пик, пущенных стрел
ливень густой.
И ни в какой будущий миг
не повторится стебель сухой,
в землю уйдут сныть, борщевик,
станут трухой.
Шелестом их полнится слух,
с ним говорят тысячи душ.
К небу плывет шелковый пух
в летнюю сушь.
Был бы художник, писал бы закаты —
праздник багряный ясного свода,
где иероглиф замысловатый
рябью исходит без перевода.
Был бы фотограф, снимал бы на пленку
ту от затылка до подбородка —
умные волосы взяв под гребенку —
линию, все обводящую кротко.
И во сне боролся с твоим лицом
обращенный ко мне упрек,
что не вхож я в твой беззащитный сон,
что никто его не берег.
И теперь не знаю – ведь я не вхож —
что светилось в лице твоем.
Мимолетной молнии светлый нож
за оконный вошел проем.
Но в ночи, проявленной серебром
улетающего огня,
не будил тебя ни далекий гром,
ни зарницы, белее дня.
Второй подстрочник