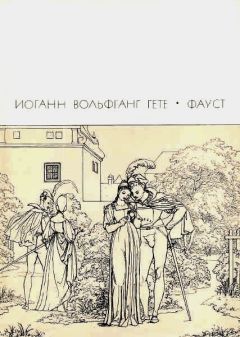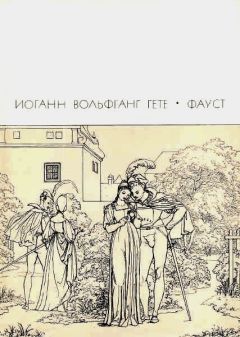Сборник - Персидские лирики X–XV вв.
Возможно, что у европейского читателя возникнет вопрос: „А что, у персов нет обыкновенной, буквальной, немистической поэзии? Разве нет у них поэзии, которая без всякой иносказательности воспевала бы подлинную, общечеловеческую любовь, подлинную красу природы, подлинное веселье?! ”
Придется ответить: пожалуй, что такой поэзии в персидской литературе и нет. Не осталось. В X веке литературный обычай еще вполне допускал неподдельную эротику, неподдельную гедонику, но потом постепенно установился в литературе довольно лицемерный обычай – писать о немистической человеческой лирической жизни так, чтобы стихи не шокировали святых людей. Писать – так, чтобы люди набожные могли понимать даже самую грешную гедонику и чувственность, как аллегорию, как высокую набожность, выраженную в мистической форме. Состоялась и обратная сделка: святые люди, или поэты безусловно мистические, желая, чтобы их произведения нравились светски настроенным меценатам, старались писать реально и не строили очень насильственных аллегорий. Следствием такого обычая явилось то, что мы теперь часто не можем определить, к а к надо понимать того или другого поэта, – тем более, что сами суфии всех легко зачисляют в свои ряды. И особенное разногласие существует по отношению к шейху суфиев Хафизу, царю лирической газели XIV века, величайшему лирику-анакреонтику Персии. Ни широкая публика, ни ученые не могут сговориться: с мистическим или не с мистическим настроением написана та или другая его любовная или вакхическая газель?
Вероятно, такой вопрос навеки останется неразрешенным.
С одной стороны, спокойное положение Шираза, который мало пострадал от монголов в XIII веке в силу умной политики его атабеков и который недурно устроился и в XIV веке, благоприятствовало восхвалению радостей жизни. Хафиз в своей молодости, возможно, с полной реальностью испытал все то, о чем гедонически поют его газели. Но, надо полагать, он и в молодости, следуя моде, писал так, чтобы его песни подлинной любви и наслаждений не производили неприятного впечатления на религиозно-суфийского читателя. С другой стороны, в старости, когда Хафиз был суфийским шейхом и когда его душа могла лежать только к аскетизму и к гедонике строго мистической, он, вероятно, пользовался впечатлениями молодости и потому писал очень реально.
Во всяком случае отметить надо тот факт, что в то время, как суфии (и многие ориенталисты) считают Хафиза чистым мистиком, стихи Хафиза распеваются в народе как любовные песни. Очевидно, подобную же мерку придется приложить и к стихам Хайяма, и к Джеляледдиновым четверостишиям, и к газелям Саади. Подлинная эротика и подлинный вакхизм, мистическая эротика и мистический вакхизм – слились в персидской литературе в нераспутываемый клубок.
Европейскому читателю, не историку литературы, при чтении персидской лирики, пожалуй, удобнее всего будет руководиться правилом одного из критических издателей дивана Хафиза: „Встречая у Хафиза прекрасное и глубоко-прочувствованное, мы имеем полное право понимать его по законам прекрасного и истинного, какие бы аллегорические толкования ни давали ему комментаторы”.
Проф. А. Крымский
Абу-Сеид Ибн-Абиль-Хейр Хорасанский (967 – 1049)
Четверостишия
Печаль, что душу мне терзает – вот она!
Любовь, что всех врачей смущает – вот она!
Та боль, что в слезы кровь мешает – вот она!
Та ночь, что вечно день скрывает – вот она!
Просил лекарства я от скрытого недуга.
Врач молвил: „Для всего замолкни кроме друга”. —
„Что пища? ”– я спросил. – „Кровь сердца”, был ответ.
„Что бросить следует? ”—„И тот и этот свет ”.
Твой дух почуяла душа в струе зефира
И, кинув здесь меня, сама по дебрям мира
Пошла тебя искать; а тело в стороне.
Твой дух она себе усвоила вполне.
О Господи, открой мне путь к подруге милой,
Дозволь, чтоб долетел к ней голос мой унылый,
Чтоб та, в разлуке с кем не знаю ясных дней,
Была со мною вновь, и я бы вновь был с ней.
Не осуждай, мулла, мое к вину влеченье,
Мое пристрастие к любви и кутежу:
Я в трезвости веду с чужими лишь общенье,
А пьяный милую в объятиях держу.
Бди ночью: в ночь для тайн любовники все в сборе
Вкруг дома, где – их друг, носясь, как рой теней.
Все двери в те часы бывают на запоре,
Лишь друга дверь одна открыта для гостей.
В те дни, когда союз любви меж нас бесспорен,
Блаженство райское бывает мне смешно.
Когда бы без тебя и рай мне был отворен,
Мне было бы в раю и скучно и темно.
Грехи мои числом – что капли дождевые,
И стыдно было мне за грешное житье.
Вдруг голос прозвучал: „Брось помыслы пустые!
Ты дело делаешь свое, а Мы – свое”.
К познанью Божества прямым путем идущий
Чуждается себя и в Боге весь живет.
Себя не признавай! верь: Бог един есть сущий!
„Божествен только Бог” к тому же нас зовет.
Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна) (980-1037)
Четверостишия
С кружком двух-трех глупцов, по этой лишь причине
В себе прозревших цвет премудрости земной,
С ослами этими в ослиной будь личине:
Не то ты еретик и грешник записной.
Мой ум, хоть странствовал не мало в мире этом,
Ни в волос не проник, а волны рассекал.
Солнц тысяча в уме сияет ярким светом,
Но строя атома я все же не познал.
От пропастей земли до высей небосклона
Вопросы бытия я все решил вполне;
Сдавалась каждая мне хитрость и препона,
Все тайны я раскрыл, лишь смерть темна и мне.
О, если бы я знал, кто я и что такое
И вслед за чем кружусь на свете как шальной!
Мне счастье ль суждено? тогда б я жил в покое,
А если нет, тогда б я слезы лил рекой.
Омар Хайям (ок. 1048–1123)
Переводы из Хайяма принадлежат И. П. Умову, ученику акад. Ф.Е. Корша.
1.От жилищ неверья лишь одно мгновенье
К знанию вершин;
И от тьмы сомненья к свету уверенья
Только миг один.
Познавай же сладость – краткой жизни радость
В мимолетный час:
Жизни всей значенье – только дуновенье,
Только миг для нас.
Нам говорят, что в кущах рая
Мы дивных гурий обоймем,
Себя блаженно услаждая
Чистейшим медом и вином.
О, если то самим Предвечным
В святом раю разрешено,
То можно ль в мире скоротечном
Забыть красавиц и вино?
Я возьму бокал шипящий,
Полный дара юных лоз,
И упьюсь до исступленья,
До безумья пылких грез.
Вам раскрою я, сгорая,
Целый мир чудес тогда;
И польется речь живая,
Как текучая вода.
Родился я… Но от того
Вселенной – пользы нет.
Умру, – и в славе ничего
Не выиграет свет.
И я доныне, не слыхал,
Увы, ни от кого,
Зачем я жил, зачем страдал
И сгину для чего.
Я буду пить, умру без страха
И хмельный лягу под землей,
И аромат вина – из праха
Взойдет и станет надо мной.
Придет к могиле опьяненный
И запах старого вина
Вдохнет, – и вдруг, как пораженный,
Падет, упившись допьяна.
Мы умрем, а мир наш будет
В небе странствовать всегда;
Мы ж по смерти не оставим
Здесь ни знака, ни следа.
Мы не жили во вселенной,—
Мир вращался и тогда.
И без нас – ему не будет
Ни ущерба, ни вреда.
Я дышу юных сил обаяньем
И блистаю тюльпана красой;
Строен стан мой, исполнен желаньем,
Как в саду кипарис молодой.
Но увы! Никому неизвестно,
Для чего, преисполнив огня,
Мой Художник Всевышний чудесно
Разукрасил для тленья меня?
Суждено тебе, о сердце,
Вечно кровью обливаться
Суждено твоим терзаньям
Скорбью горькою сменяться.
О, душа моя! зачем же
В это тело ты вселилась? —
Иль затем, чтоб в час кончины
Безвозвратно удалилась?!
Книга юности закрыта,
Вся, увы, уж прочтена.
И окончилась навеки
Ясной радости весна.
И когда же прилетала
И к отлету собралась
Птица чудная, что сладко
„Чистой юностью” звалась?!
Промчались жизни беззаботной
Дни, роком данные в удел.
Как будто ветер мимолетный
По полю жизни пролетел.
О чем скорбеть? – Клянусь дыханьем
Есть в жизни два ничтожных дня:
День, ставший мне воспоминаньем,
И – не наставший для меня.
Я сам с собой в борьбе, в смятенье,
Всегда, всегда!
Что делать мне? За преступленья
Я полн стыда!
О, пусть Ты полон всепрощенья,—
Но в глубине
Ты видел все, – и я в смущенье,
Что делать мне?!
Если тщетны упованья
И надежды и мечты, —
Так зачем тогда старанья
В этом мире суеты!
Мы приходим к цели поздно.
Не успеем отдохнуть —
Как судьба твердить уж грозно:
„Вновь пора пускаться в путь! ”
И ночи сменялися днями
До, нас, о мой друг дорогой;
И звезды свершали все так же
Свой круг, предрешенный судьбой.
Ах, тише! Ступай осторожней
На пыль под ногою твоей:
Красавиц ты прах попираешь,
Останки их дивных очей.
К тебе, о Небо-Колесница,
Несется плач и горький стон;
Давно над смертными глумится
Неотвратимый твой закон.
О, если б грудь твою раскрыли,
Земля, Земля! как много мы
Нашли б останков в слое пыли,
Как клад бездонный в безднах тьмы.
Укройте меня под землею,
Когда успокоюсь навек;
Не ставьте камней надо мною,
Чтоб помнил меня человек.
Но прах мой, ту бренную глину,
Смешайте с душистым вином,
Слепите кирпич, и кувшину
Послужит он крышкой потом!
16.