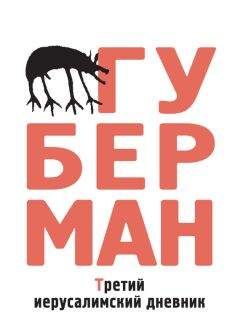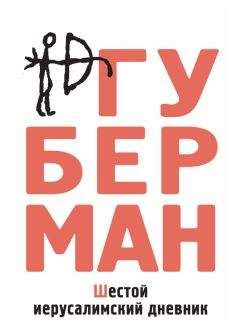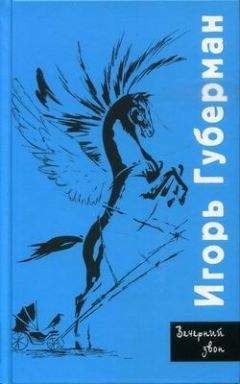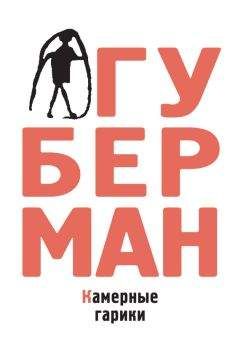Игорь Губерман - Смотрю на Божий мир я исподлобья…
Часть вторая
Не видя прелести в фасаде,
меня судьба словила сзади.
Пройдя через опасности и гнусь,
пока тянулись годы заключения,—
ужели я сломаюсь и загнусь
от горестных превратностей лечения?
Едва я только вышел на опушку,
ища семье для ужина грибы,
судьба меня захлопнула в ловушку,
чтоб реже я шутил насчёт судьбы.
Годы плавно довели
до больничной койки,
без меня друзья мои
ходят на попойки.
Жарят мясо на огне,
старость нашу хают,
вспоминая обо мне,
горестно вздыхают.
Я, однако, поднимусь
и походкой гордой
я в застолье к ним вернусь
с той же светлой мордой.
Ещё одно, замеченное мной
у хвори, где сюжет недуга сложен:
от жизни я невидимой стеной
всё время ощутимо отгорожен.
После этой дурной переделки
безмятежно займусь я старением,
и часов равнодушные стрелки
мне ещё подмигнут с одобрением.
Я стойко бои оборонные
веду с наступлением сзади,
и дроги мои похоронные —
лишь доски пока что на складе.
Когда и сам себе я в тягость,
и тёмен мир, как дно колодца,
то мне живительная благость
из ниоткуда часто льётся.
Защита, поддержка, опека,
участливой помощи мелочь —
любезны душе человека,
но дарят ей вялую немочь.
Творится явный перебор
при сборе данных к операции:
такой мне вставили прибор,
что вспомнил я о дефлорации.
Засосанный болезнью, как болотом,
но выплыть не лишённый всё же шанса,
телесно я сравнялся с Дон Кихотом,
но умственно – я прежний Санчо Панса.
Свой лук Амур печально опустил,
застыв, как тихий ангел над могилой;
напрасно ты, приятель, загрустил,
ещё мы поохотимся, мой милый.
Жизненной силы бурление
вкупе с душою шальной —
лучшее в мире явление
из наблюдавшихся мной.
Забавен в нас, однако, дух публичный:
примерно через два десятка дней
болезнь – уже не факт интимно личный,
и хочется рассказывать о ней.
Закинут в медицинское верчение,
внутри я подвергаюсь и наружно,
лечение – крутое обучение
тому, что никому из нас не нужно.
Радость воли, азарт, вожделение —
удалились в глухой монастырь,
мне осталось болезни глумление
и разрушенных планов пустырь.
Гнусная – однако не позорная —
выпала от жизни мне награда,
горько заскучает беспризорная
и осиротелая эстрада.
Стану я слегка другим отныне —
словно гонг неслышно прозвучал,
столько оплеух моей гордыне
в жизни я ещё не получал.
Придётся мириться, подружка,
с печальной моей ситуацией:
с утра электронная пушка
стреляет мне в зад радиацией.
В меня заливается химия,
которая травит и косит,
уже моя внутренность – синяя,
но рак этот цвет не выносит.
Судьбу разозлило, наверно,
моё в облаках почивание,
и послана гнусная скверна,
чтоб вытерпел я врачевание.
Сделаться бы собраннее, суше
и бронёй укрыться, словно в танке,
чтобы не улавливали уши
звуков затевающейся пьянки.
Сначала не чувствуешь путы,
внутри не пылает свеча,
становишься болен с минуты,
когда побывал у врача.
Болезнями даётся постижение
того, чем не умели дорожить,
и есть ещё в болезнях унижение,
которое полезно пережить.
Я благодаря текущей хвори
с радостью и страхом обнаружил,
что у Бога я ещё в фаворе,
ибо всё могло быть сильно хуже.
Я вынесу густую передрягу,
но, если не сдержу я это слово,—
отрадно, что над ямой, где залягу,
друзья наверняка хлебнут спиртного.
Готовлюсь духом к операции,
надеясь тихо и недужно,
что у хирурга хватит грации
лишь то отрезать, что не нужно.
Когда в халат недуга прочно влез,
а душу манит лёгкая беседа,
родится нездоровый интерес
к течению болезни у соседа.
Всё, что жизни привольно довлело —
интересы, азарт, обольщения,—
не пропало и не омертвело,
а укрылось и ждёт возвращения.
Есть виды очень разного спасения
в лихом репертуаре излечения,
и скоро я восторгу облысения
подвергнусь в результате облучения.
Уверенность, что я перемогнусь,
не снизилась в душе ни на вершок,
поскольку я, конечно же, загнусь,
когда всё будет очень хорошо.
Приметливо следя за настроением,
я пристален к любой в себе подробности —
как будто занимаюсь измерением
оставшейся во мне жизнеспособности.
Забавно, как денно и нощно,
до самой могильной плиты
старательно, резво и мощно
мы гоним поток суеты.
И по безвыходности тоже,
и по надрезу на судьбе —
с тюрьмой недуги наши схожи,
но здесь тюрьма твоя – в тебе.
Узник я, проста моя природа,
я не тороплю скольженье дней,
в будущем обещана свобода,
я пока не думаю о ней.
Отнюдь не в лечебной палате —
я дома, гостей угощаю,
однако в больничном халате
всё время себя ощущаю.
С недугом познакомившись поближе
(с тюрьмой не понаслышке я знаком),
я сходство обнаружил: хочешь выжить —
в тюрьму не погружайся целиком.
Терпению крутое обучение
ведут со мною славные ребята;
«Мучение – вот лучшее лечение»,—
учили их наставники когда-то.
Бывают в жизни обстоятельства —
другому знать о них негоже,
и самолучшее приятельство
за эту грань уже не вхоже.
От шуток хорошо бы отучиться:
живя без их ехидного коварства,
я стал бы эффективнее лечиться,
смех сильно ослабляет яд лекарства.
Кошмарный сон тянулся густо,
аж голова от пота взмокла:
лежу на ложе у Прокруста,
а надо мною – меч Дамокла.
Шёл еврей в порыве честном
сесть и тихо выпивать,
но в углу каком-то тесном
рак его за жопу – хвать!
Я справедливо наказан судьбой,
вряд ли отмолят раввины,
грустный пейзаж я являю собой —
радостей жизни руины.
Образ жизни мой шальной
стал теперь – кошачий,
и не столько я больной,
сколько я лежачий.
Но нельзя не подумать, однако,
что причина – в рождения дне:
я рождён под созвездием Рака,
он был должен явиться ко мне.
Мой рак ведёт себя по-свински,
поскольку очень жить мешает,
а говоря по-медицински,
мне дозу кары превышает.
Душа металась, клокотала,
бурлила, рвалась и кипела,
потом отчаялась, устала
и что-то тихое запела.
В болезни есть таинственная хватка —
тюремной очевидная сестра:
почти уже не мучает нехватка
всего, что было радостью вчера.
Согласно процедуре изучения
плетусь из кабинета в кабинет,
я нынче пациент, объект лечения,
а личности – в помине больше нет.
Сейчас мои доброжелатели,
пока верчусь я в передряге,—
отменных сведений жеватели,
я рад, что счастливы бедняги.
Я к вечеру бываю удручён
и словно опалён огнём из топки —
возможно, потому что облучён,
хотя всего скорей – в тоске по стопке.
Читаю. Но глаза ещё следят
за очереди медленным течением,
вокруг мои соратники сидят,
печальные, как рак под облучением.
Сижу поникший, хмурый, молча,
какая ж, думаю, ты блядь:
в меня вселившаяся порча
на душу тянется влиять.
Завидя жизни кутерьму,
я прохожу насквозь и мимо,
поскольку я для всех незримо
несу в себе свою тюрьму.
Послушно принимая курс лечения,
покорствую, глаза на всё закрыв,
испытывая счастье облегчения,
когда мне объявляют перерыв.
Подумал я сегодня на закате:
ведь мы, храня достоинство и честь,
за многое ещё при жизни платим,
что Страшный Суд не может не учесть.
На время из житейской выйдя школы,
вселился в медицинский я шатёр,
и ныне честолюбия уколы
сменились на уколы медсестёр.
Тяжелы бесполезные муки,
а успехи – пусты и убоги;
но когда опускаются руки,
то невдолге протянутся ноги.
Да, организм умней меня:
ничуть не возмутившись,
вся невоздержанность моя
исчезла, не простившись.
Встаю теперь я очень рано
и не гужуюсь у приятелей,
в моей тюрьме я сам – охрана,
жена – команда надзирателей.
В период серый и недужный,
где страхи вьются у двери,
мир делится на мир наружный
и сферу вязкой тьмы – внутри.
Дела мои сейчас пока неважные,
наездник унитаза я часами,
а мысли все – лихие и отважные,
и все с кавалерийскими усами.
Судьба жестоко вяжет по канве,
стандартной для недуга моего,
но в каше, что варю я в голове,
не в силах она тронуть ничего.
Чужими мыслями пропитан,
я, чтоб иметь на них права,—
поскольку в честности воспитан —
перешиваю их сперва.
На сердце – странные колючки:
прошли ведь вовсе не века,
но вот в Россию едут внучки,
уже не зная языка.
Пока порхал на ветку с ветки,
пел гимны солнцу и дерьму,
переродившиеся клетки
внутри построили тюрьму.
Стариков недовольное племя
говорит и в жару и при стуже,
что по качеству позжее время —
несравненно, чем раньшее, хуже.
Художник, пророк и юродивый
со всем, что сказали в запале,
хвалу получают от родины
не раньше, чем их закопали.
«Завидным пользуясь здоровьем»,
его мы тратили поспешливо,
и этим дедовским присловьем
былое машет нам усмешливо.
Наивен я: с экрана или рядом —
смотрю на лица монстров без опаски,
мне кажется всё это маскарадом:
да – дикие, да – мерзкие, но – маски.
Сообразив, что не умру,
владея времени бюджетом,
я превратил болезнь в игру
с отменно жалостным сюжетом.
Я знаю, почему люблю лежать:
рождён я обывателем и книжником,
а лёжа мне легко воображать
борцом себя, героем и подвижником.
А время – это всё же мельница,
в её бесшумных жерновах
настолько всё бесследно мелется —
лишь пыль на книгах и словах.
Срама нет в уподоблении:
нашей юности поэты
всё ещё в употреблении,
но истёрты, как монеты.
Ген, как известно, – не водица,
там папа, мама, предка примеси;
всё, с чем доводится родиться,
кипит потом на личном примусе.
В болезни есть одно из проявлений,
достойное ухмылки аналитика:
печаль моих интимных отправлений
мне много интересней, чем политика.
Под гам высоких умозрений
молчит, сопя, мой дух опавший,
в тени орлиных воспарений
он – как телёнок заплутавший.
Я думаю часто сейчас,
когда уплотняются тучи,
что хаос, бушующий в нас,
подземному – брат, но покруче.
Напрасно разум людской хлопочет,
раздел положен самой природой:
рождённый ползать летать не хочет,
опасно мучить его свободой.
Когда мне больно и досадно,
то чуть ещё маркиздесадно.
В ответ на все плечами пожимания
могу я возразить молве незрячей:
мы создали культуру выживания,
а это уж никак не хер собачий.
Свои успехи трезво взвесив
и пожалев себя сердечно,
я вмиг избавился от спеси —
хотя и временно, конечно.
Покуда жив, пока дышу,
покуда есть и слух и зрение,
я весь мой мир в себе ношу,
а что снаружи – важно менее.
Мой стих по ритмике классичен,
в нём нет новаторства ни пяди,
а что он часто неприличен,
так есть классические бляди.
Ужели это Божье изуверство
для пущей вразумлённости людей?
Ведь наши все немыслимые зверства —
издержки благороднейших идей.
Гуляло по свету гулящее тело,
в нём очень живая душа проживала,
Россия его разжевать не успела,
хотя увлечённо и долго жевала.
Мне смыслы, связи и значение —
важней хмельного сладкозвучия,
но счастлив я, по воле случая
услышав музыки свечение.
Найти побольше общего желая,
я сравниваю часто вхолостую:
тюрьмы любой романтика гнилая —
отсутствует в болезни подчистую.
Тюрьма: нигде не мучим болями,
я, как медлительный слепой,—
из-за апатии с безволием
на фоне слабости тупой.
Сегодня пьянка вместо дел,
сегодня лет минувших эхо —
какое счастье, что сидел! —
какое счастье, что уехал!
Душе распахнута нирвана
и замолкают в мире пушки,
когда касаюсь я дивана,
тахты, кровати, раскладушки.
Забавное у хвори окаянство:
с людьми общаясь коротко и смутно,
я выселился в странное пространство,
в котором подозрительно уютно.
В размышлениях я не тону,
ибо главное вижу пронзительно:
жизнь прекрасна уже потому,
что врагиня её – омерзительна.
К сожаленью, подлецы
очень часто – мудрецы,
сладить с ними потому —
тяжко прочему дерьму.
В поиске восторгов упоения
разум и душа неутомимы,
нас не ранят горести гонения,
мелкие для чувства, что гонимы.
Душа твоя утешится, философ,
не раньше, чем узрит конечный свет,
ведь корень всех земных её вопросов —
в вопросе, существует ли ответ.
Сегодня думал перед сном,
насколько время виновато,
что ото всех борцов с дерьмом
немного пахнет странновато.
Великая российская словесность,
Россию сохраняя как вокзал,
сегодня просочилась даже в местность,
где житель ещё с веток не слезал.
Случайно выплывает облик давешний,
и снова ты забыть его готов,
но памяти назойливые клавиши
играют киноленту тех годов.
Те, кто жил до нас веками ранее,
были нас умами не бедней,
разум наш замусорило знание,
но оно не делает умней.
Хочу, когда уже я стар и сед,
сказать о чувстве времени двояком:
я гибельному веку – лишь сосед,
хотя в родстве с убийцей и маньяком.
Наш век пошёл на слом,
запомнясь полосой —
от девушки с веслом
до бабушки с косой.
Недуг мой крылья распростёр
и грозно вертит пируэты,
а я и зритель, и актёр,
и сцена этой оперетты.
Состарившись, мы видимся всё реже,
а свидевшись, безоблачно судачим,
как были хороши и были свежи
те розы у Тургенева на даче.
Увы, но даже духа воспарения
способны довести до изнурения.
А славно, зная наперёд,
что ждут людей гробы,
и твой вот-вот уже черёд,
под водку есть грибы.
Сколько б мы, воспаляясь, ни спорили
то изустно, то в текстах несметных —
сокровенные нити истории
недоступны для зрения смертных.
Верю в точность химических лезвий,
но сегодня почувствовал снова,
что лекарства, сражая болезни,
заодно пришибают больного.
Я стараюсь отойти при умных спорах,
в них опасная зараза вероятна:
есть умы, от обаяния которых
остаются на душе дурные пятна.
Когда-то был я вольнодумец,
свободой пылко восхищался,
но стал печальник и угрюмец,
когда с ней близко пообщался.
Все в мире пьют покоя сок,
не чувствуя беды,
засунув головы в песок
и выставив зады.
Всё, что вытворяется над нами,
было бы успешливо едва ли,
если бы своими именами
всё, что происходит, называли.
Всегда жива надежда, что однажды
к нам вылетит божественная птица,
получит по заслугам Каин каждый
и Авель каждый к жизни возвратится.
Подпочвенные рокоты и гулы,
сулящие губительные вспышки,
нисколько не влияют на загулы,
целебные для краткой передышки.
Удачи и шедевры – не объекты
для пламенной мыслительной игры,
охотней полыхают интеллекты
вокруг пустого места и дыры.
Старанием умелых докторов
от этой лихоманки я оправлюсь
и сделаюсь физически здоров,
а умственно и так себе я нравлюсь.
Недуг меня уже подпортил малость:
я чувствую, едва сойду с крыльца,
движений унизительную вялость
и слабую приветливость лица.
Способствуя врачу по мере сил,
в послушном разговоре о диете
про выпивку я просто не спросил,
чтоб, выпивши, не думать о запрете.
Поэзия – коварная езда,
я сборники порой листаю честно:
порожние грохочут поезда,
куда, зачем, откуда – неизвестно.
Когда больные пятна запорошены
снежком уже беспамятной зимы,
сны снятся удивительно хорошие
о том, насколько славно жили мы.
Всё-таки друзья меня достали
и сидят с уверенной ухмылкой:
качеством закалки твёрже стали,
мой характер – воск перед бутылкой.
Дом, жена, достаток, дети,
а печаль – от малости:
в голове гуляет ветер,
не пристойный старости.
Как некогда в те годы заключения,
когда в тюрьме стихи писал надменно,
свидетель я иного злоключения,
в котором – и герой одновременно.
Когда нас косит века вероломство
и время тапки белые обуть,
сильнее в нас надежда на потомство,
которое отыщет лучший путь.
А что, скажи по сути, делал ты?
Не скромничай, ведь это между нами.
Я смыслы извлекал из пустоты
и бережно окутывал словами.
Становится тоскливо и ненастно,
и жмутся по углам венцы творения
везде, где торжествует самовластно
конечный результат пищеварения.
Споры стали нам духа опорой,
даже с Богом мы спорить не трусили,
нету в мире хуйни, над которой
не витали бы наши дискуссии.
С моим недугом я расстанусь,
одну измену не простив:
меня подвёл двуликий анус,
врага преступно пропустив.
Чтоб лавры обрести, не суетись,
не сетуй на житейские морозы,
тебе даны стихи, чтобы спастись
в растлительном потоке низкой прозы.
С меня заботы жизни дружно слезли,
у взгляда сократилась территория,
теперь моя история болезни —
единственная личная история.
Я облученьем так потрёпан,
что не могу ни встать, ни сесть,
и даже дружеского трёпа
ещё не в силах перенесть.
Вот на восьмом десятке лет
и пишутся стихи,
поскольку сил у деда нет
на прочие грехи.
Люблю, чтоб шёл жених к невесте,
люблю чувствительные сказки,
и всей душой мне в каждом тексте
счастливой хочется развязки.
Когда-то я мчался на полном скаку
и ветры хлестали по мне,
сегодня я с кайфом лежу на боку,
а как надоест – на спине.
Увижу ли я тех, кого хочу,
на небе, недоступном для живого?
Я преданно смотрю в лицо врачу,
не слыша и не слушая ни слова.
Чтоб не болтать о муках ада,
к земным я лучше перейду:
врагу – и то желать не надо
мою зубную боль в заду.
Какое-то заразное влияние
оказывают книги на меня:
медлительное словоизлияние
томит меня потом к исходу дня.
Дурная боль не сломит лоха,
упрямство клонит к терпежу;
хожу сейчас я крайне плохо;
сижу – едва; но как лежу!
На заре поют зазря соловьи,
трели ранние во мне безответны,
утром сумеречны чувства мои,
а под сумерки – светлы и рассветны.
Сколь у нас ни будь ума и чести,
совести, культуры, альтруизма,
тайно покурить в запретном месте —
счастье для живого организма.
– Послал ему Бог испытание!
– А что с ним? – Почти ничего:
постигло его процветание,
молитесь за душу его.
Всякой боли ненужные муки
не имеют себе оправданий,
терпят боли пускай только суки,
что брехали о пользе страданий.
Повысить о чём-нибудь знание —
могу я, хотя и натужно,
когда б не предвидел заранее,
что это ни на хер не нужно.
Время течёт не беззвучно,
время бурлит и журчит,
внуки докажут научно
факт, что оно не молчит.
Свалился я под сень моих чертогов,
овеян медицинским попечением,
сейчас уже лечусь я от ожогов,
содеянных заботливым лечением.
Перечёл – и по коже мороз,
обнаружил я признаки грозные,
что уже на пороге склероз:
мысли стухли и стали серьёзные.
Сказать про жизнь, её любя,
точней нельзя: сапог не парный,
и то тюрьма вокруг тебя,
то дружной пьянки дух нектарный.
Звучит, как скверный анекдот,
но жребий не кляня,
я выздоравливаю от
лечения меня.
Всё срастается на теле живом,
но ещё за стол не сесть, не поврать;
выздоравливаю я тяжело;
это лучше, чем легко умирать.
Тревожат Бога жалобой, прошением,
те молят за себя, те – за других,
а я к Нему – с циничным утешением:
терпи, Ты всё равно ж не слышишь их.
Невнятное томит меня смущение —
с душой, видать, не всё благополучно:
с людьми недуг порвал моё общение,
а мне ничуть не пусто и не скучно.
Висит над миром шум базарный,
печь разногласий жарко топится,
и тихо полнятся казармы,
и в арсеналах гибель копится.
Всегдашнее моё недоумение —
зачем живу, случаен и безбожен,
сменилось на уверенное мнение,
что этого Творец не знает тоже.
Надо мне известности не боле,
чем недавно выпавшая мне:
два моих стишка в какой-то школе
в женском туалете на стене.
Творец давно уже учёл
всего на свете относительность,
и кто наукам не учён,
у тех острей сообразительность.
Свалясь под уважительную крышу
признания, что скорбен и недужен,
окрестной жизни гомон я не слышу —
похоже, он давно мне был не нужен.
Везде стоят солидные ряды
и книги возлежат на них залётные —
то мудрости трухлявые плоды,
то пошлости порывы искромётные.
Нет, я уже не стану алкоголиком,
и я уже не стану наркоманом,
как римским я уже не буду стоиком
и лондонским не сделаюсь туманом.
Чей разум от обычного отличен —
сгорают на огне своём дотла,
а мой умишко сильно ограничен,
поэтому печаль моя светла.
За все про все идейные течения
скажу словами предка моего:
«Любого не боюсь вероучения,
боюсь только апостолов его».
Одна лишь пагубная линия
заметна мне в существовании,
по ней ведёт нас блуд уныния,
ловитель кайфа в остывании.
Я в молодости часто забывал,
как выглядел конец вечерней пьянки,
а утром этот памяти провал
оказывался девкой с той гулянки.
С той поры, как нашёл этот дивный
метод битвы с недугом паскудным,
я использую самый активный
вид лечения – сном непробудным.
Среди бесчисленных волнений,
меня трепавших без конца,
всегда была печаль сомнений
в доброжелательстве Творца.
Я тщательно, порой до неприличия,
найти пытаюсь тайное тавро:
у зла ведь очень разные обличия,
всех чаще это – светлое добро.
Сам я счастлив бы стал, в человеках
сея мысли, как жить хорошо,
но в моих закромах и сусеках
я такого зерна не нашёл.
Кошмары мучили поэта:
напившись, он уже вот-вот
касался истины, но это
обычной девки был живот.
Что впереди? Родни галдёж,
потом наркоз и вся потеха;
когда хирург прихватит нож,
дай Бог им общего успеха.
Забавно, что у дней бывают лица:
угрюмые, задумчивые, строгие,
день может улыбаться или злиться,
бывают мельтешные и убогие.
Поскольку им непогрешимость
дана, как истина сама,
в сужденьях равов есть решимость
с некрупной примесью ума.
Недолгое от будней отключение
по случаю наплыва злоключений —
заметное приносит облегчение
от суетных и вздорных попечений.
В душе у меня затвердела
любимая бабкой присловица:
«Родиться евреем – полдела,
евреями люди становятся».
Всё нужное, чтоб выжить нам, – единое,
для жизни корневое основание,
а лишнее и не необходимое —
нужнейший эликсир существования.
Прочтя, как полезны страдания,
что счастью они не помеха,
я слышу за шкафом рыдания —
там черти рыдают от смеха.
Обманчиво понурое старение:
хотя уже снаружи тело скрючено,
внутри творится прежнее горение,
на пламя только нет уже горючего.
В палитре боли – очень пёстрой —
живут в готовности слепой —
от сокрушительной и острой
до изнурительной тупой.
Бредя сквозь жизнь, изрядно мглистую,
терпя её коловерчение,
чесать пером бумагу чистую —
весьма большое развлечение.
Висит гипноз бесед манерных,
и дикий зреет самосуд,
и легионы правоверных
мир иноверцев сотрясут.
А славен буду я десятки лет
не в памяти у нескольких гурманов,
но яркий по себе оставя след
на многих поколеньях графоманов.
Случай, на кого-то фарт обрушив,
сильно всё меняет в человеке,
деньги деформируют нам души,
но светлы и счастливы калеки.
Я сидел, но присутствие ложа
всё вниманье моё занимало,
хорошо себя чувствовать лёжа —
это тоже при хвори немало.
Мне по душе оно как есть,
земное бытиё,
и получи благую весть,
я б не понёс её.
В пустой игре моих мыслишек
испуг нечаянный возник,
что бередит меня излишек
херни, почерпнутой из книг.
Меня спасает только сон,
однако и во сне
поёт сопенью в унисон
печаль моя во мне.
По жизни счастлив я, однако
скажу как честный старожил:
владей я княжеством Монако,
совсем иначе я бы жил.
За мною нет заслуг существенных,
но я зачислил бы туда,
что я в любых делах общественных
не лез на сцену никогда.
Всё, что плодит моё воображение,
зачато впечатлением извне,
но в то же время это отражение
свеченья балаганного во мне.
Я без печали упустить
уже из рук удачу мог,
я мог понять, могу простить,
но чтоб забыть – избави Бог.
Во мне как будто гамма нотная,
по вкусу время выбирая,
гуляет музыка дурнотная,
мотивы гнусные играя.
Порой бывает, что мгновение
зависнет в воздухе бесплотно,
и словно духа дуновение
тебя обвеет мимолётно.
А многое, что ужасом казалось
натурам понимающим и чутким,
меня как будто вовсе не касалось,
настолько разъебаем был я жутким.
Есть образ, некогда печаливший
умишко мой, во тьме блуждающий:
челнок, от берега отчаливший
и цели плаванья не знающий.
Моё некрупное жилище
мне словно царские хоромы,
сдаётся мне, что только нищим
нужны дома-аэродромы.
Люблю, когда в массиве текста —
и в книге, и на полотне,
как на холме живого теста,
игра дрожжей заметна мне.
Сегодня день понурый и больной,
сам воздух катит волны утомления,
и мутной наплывают пеленой
угрюмые о жизни размышления.
В моём химическом сосуде —
состав наследственностей двух:
жестокий дух еврейских судий
и прощелыги лёгкий дух.
Не притворяюсь мудрецом,
но я недугу благодарен
за то, как больно, всем лицом
о стол гуляний был ударен.
У времени различны дарования:
несёт оно, не ведая сомнения,
то свежее струенье созревания,
то душное дыхание дряхления.
Когда стекаются слова,
чтобы составить корпус текста,
слегка кружится голова,
для них отыскивая место.
Везде кипит безумный торг,
торгует мир и тьмой, и светом,
и каждый день увозят в морг
всех надорвавшихся на этом.
Ночь обещала быть тяжёлой,
поскольку вечер тёк в тиши,
и я подумал: дивной школой
хворь обернулась для души.
В момент известий огорчительных,
учил высокий эрудит,
лишь сок напитков горячительных
надёжно ярость охладит.
Украл у местного поэта
лихую рифму «нота – квота»,
и утешал себя, что это
он тоже стибрил у кого-то.
Живу я в мире, узко здешнем,
имею жалкий кругозор,
а далеко в пространстве внешнем
творятся слава и позор.
Пора меняться: стану тощий,
смурной и горестно молчащий,
быть пессимистом сильно проще,
поскольку прав гораздо чаще.
Мир так загнил до основания,
что посреди жестокой прозы
смешны все наши упования,
надежды, планы и прогнозы.
Тоской познанья были мучимы
и эрудит, и грамотей,
а мы, наукам не обучены,
усердно делали детей.
С какого-то невнятного вчера
я что бы ни читал и что б ни видел,
мне слышится: пора, мой друг, пора,
и я на этот голос не в обиде.
Тьму парков обожают наши дети —
и дурни все, и выросшие дуры —
чего им там? А в городе, при свете,—
полным-полно искусства и культуры.
Конечно, я уже не молодой,
но возраст – не помеха, если страсть…
Вот разве что ужасно стал худой —
в меня теперь Амуру не попасть.
Увы, но взгляд куда ни кину —
везде пропорция равна,
везде Творец, готовя глину,
чуть-чуть подмешивал гавна.
Язычник я: мой разум узкий
не принял свыше господина,
и мне язык текучий русский —
кумир и воздух воедино.
В чаду и вихре наслаждений
хиреет пламень убеждений.
У всех висит за сумеречной скукой
неведомая финишная дата;
забавно, что душа перед разлукой
милей и ощутимей, чем когда-то.
За то, что было дней в избытке,
благодарю судьбу, природу
и алкогольные напитки,
таившие живую воду.
Конец тебе, любой герой,
когда в души твоей хозяйство
прокрался сочный геморрой
национального зазнайства.
Помыслы, порывы, побуждения —
чистые и светлые, как искра,
душу озаряют в миг рождения,
но и затухают очень быстро.
Увы, мой мир совсем ещё не светел,
я слабости своей не обнаружу,
но так меня легко шатает ветер,
что я не выхожу пока наружу.
Не счесть уму грехов количества,
но разбираясь в их меню,
я, чтоб не впасть в соблазн учительства,
себя в невежестве храню.
Я душой тянулся много лет
к мыслям этим, тонко прихотливым:
знание, что в жизни счастья нет,
вовсе не мешает быть счастливым.
Не стоит нам сегодня удивляться,
что клонит плиты мрамора, как ветки:
на кладбищах надгробия кренятся,
когда в гробах ворочаются предки.
Душа смакует облегчение
без даже капли скуки пресной,
что круто высохло влечение
к херне, доселе интересной.
Дохрустывая жизнь, как кочерыжку,
я вынужденно думаю о ней:
когда ещё бежал по ней вприпрыжку,
она была значительно сочней.
Заболев, я укрылся в обитель —
тихо ждать и пугливо надеяться,
но свихнувшийся ангел-хранитель
созывает гостей, чтоб развеяться.
Не то чтобы мы патокой с елеем
себя всё время мазали слегка,
но сами от себя мы скрыть умеем
заметное другим издалека.
Мой путь поплоше и попроще,
чем у героев и философов:
пасу свои живые мощи,
их ублажая массой способов.
Среди интимных мыслей нежных,
меня щекочущих приятно,
совсем не видно белоснежных —
везде моих насмешек пятна.
Творец над нами ставит опыты,
насколько прочны дух и тело,
но это всё пустые хлопоты —
в нас нету явного предела.
Сумерки сгущают ощущения,
к ночи вянут мысли деловые,
в сумраке пустого помещения
сходятся на рюмку домовые.
Лишь тот умён, учил мудрец,
кто не от Бога ждёт посылку,
а сам находит огурец,
когда уже добыл бутылку.
Легко беру я, что мне нужно,
из книг, которые читаю,
чужое тоже мне не чуждо,
но я своё предпочитаю.
На старость очень глупо быть в обиде,
беречься надо, только и всего;
я в зеркале на днях такое видел,
что больше не смотрюсь уже в него.
Не зря сегодня день уныл
и скукой стелется зелёной:
с утра его я не омыл
мыслишкой утренней солёной.
Зло я ощущал кошмарно близко —
нюхом и на слух, а больше взглядом,
но тогда я падал жутко низко,
а сейчас оно повсюду рядом.
Ум быстро шлёт, когда невмочь,
нам утешенья скоротечные:
болит живот почти всю ночь —
я рад, что боли не сердечные.
Потом герои с их попытками
враз одолеть земное лихо
угрюмо гасят пыл напитками,
которым жалуются тихо.
Все рыцари добра полны надежды:
отнюдь они не сеют и не пашут,
а, вырядившись в белые одежды,
призывами к добру отважно машут.
У правды нынче выходной:
полез я в память, из подвала
таща всё то, чего со мной
по жизни сроду не бывало.
Я с женским хором был знаком,
хористки так меня любили,
что часто виделись тайком —
в любви они солистки были.
Измучась озверелым врачеванием,
я мыслю со стоическим спокойствием:
зато теперь гастрольным кочеванием
с усиленным займусь я удовольствием.
Мои на мудрость посягательства,
мои высокие печали
не пережили наплевательства,
сбежали вон и одичали.
Мне кажется, я здраво ограничился
о доме и о близких беспокойством —
меня пугает каждый, кто набычился
бороться со всемирным неустройством.
Не знаю, что бы это означало:
меня не устаёт терзать и мучить
глухое материнское начало:
вон ту удочерить, а ту – увнучить.
Когда-то даже в пору повзросления
мы духом были – мелкие клопы,
забуду ли я муки вылупления
из дьявольски уютной скорлупы?
Забавны выплески любви
на фоне тягостных событий:
меня сейчас друзья мои
сильнее любят и открытей.
Певучий сок раблезианский
добыл я личными трудами,
колодец мой артезианский
в себе я сам копал годами.
Всегда приходит Новый год,
неся подарки дорогие —
освобожденье от невзгод
и их замену на другие.
Было дико, но прекрасно,
и пока дряхлеть не стала,
Леда много лет напрасно
снова лебедя искала.
Нас давит жизнь густой нагрузкой,
однако дней тяжёлых между
мы все на выпивку с закуской
имеем право и надежду.
К себе забавно присмотреться,
поскольку с миром наши трения
то затевает ум, то сердце,
а то – разлад пищеварения.
Я слишком щедро облучён
и до сих пор ещё болею;
рак безусловно обречён,
а я, быть может, уцелею.
Не просто я утратил пиетет
к ума и интеллекта обаянию,
а странный ощутил иммунитет
к любому постороннему влиянию.
В организме поближе ко дну —
разных гадостей дремлет немало,
начинаешь лечить хоть одну —
просыпается всё, что дремало.