Ирина Кнорринг - После всего: Стихи 1920-1942 гг.
С глубоким волнением рассказывал Николай Николаевич о том, что последним желанием, последней надеждой и завещанием его покойной дочери были слова: «Напечатай мои стихи на Родине». Не надеясь на удачу, по его просьбе в середине 60-х годов я составил небольшой сборник ее стихов, а Дементий Алексеевич Шмаринов (известный художник, двоюродный брат И. Кнорринг) в доме О. Верейского вручил рукопись Твардовскому. Как писал мне Шмаринов, Александр Трифонович прочитал ее сразу же, «не отрываясь и не поднимая головы». Но… помочь в издании в то время не смог: «белоэмигрантов» у нас не издавали. Рукопись вернулась ко мне.
История алма-атинского издания 1967 года может служить занятной иллюстрацией того, как удавалось нам преодолевать препоны цензуры и «руководящих указаний» — благодаря тому, что конкретные люди в конкретной ситуации осмеливались идти против течения.
В то время в казахстанском издательстве «Жазушы» была задумана серия книжек начинающих авторов под общим заглавием «Новые стихи». В издательском плане фамилии поэтов не указывались, и редактор серии З.В.Попова решилась «подбросить» сборник И.Кнорринг в этот молодежный «набор».
Задуманное предприятие отличалось несомненной дерзостью даже для начала «эпохи застоя». Сигнальный экземпляр книжки был уже готов, когда обман во спасение обнаружился. Главный редактор «Жазушы» Аманжол Шамкенов вызвал к себе Попову.
— Как вы осмелились на такое?! Вы понимаете, что вы сделали? — спросил он.
— Аманжол, — ответила Зоя Васильевна, — ведь вы поэт. Ведь вы же понимаете, какие это стихи!
И она произнесла пламенный монолог в защиту поэзии, русских эмигрантов 20-х годов, старика Кнорринга, который в свои 86 лет ждет — не дождется выхода этой книжки, и, наконец, в защиту здравою смысла.
Шамкенов долго думал. А потом сказал:
— Ну, что ж! Пусть меня выгонят вместе с вами…
И подписал сигнальный экземпляр в «свет!»[2].
Книжку я послал Твардовскому — и он тотчас же опубликовал отклик на нее в своем журнале.
Но и спустя десять лет, когда очередную попытку напечатать стихи Ирины Кнорринг сделал Борис Слуцкий, тогда один из соредакторов «Дня поэзии», ему это не удалось.
И только новое время сделало возможным то, что казалось невозможным еще совсем недавно: стихи русского поэта возвращаются к русскому читателю.
Александр Жовтис
«…Брожу по палубе пустынной…»
…Брожу по палубе пустынной,
Гляжу в неведомую даль,
Где небо серое, как сталь,
И вьются чайки цепью длинной.
Передо мною сквозь туман,
Как серый призрак, как обман,
Видны строенья Цареграда,
Над бездной волн, в кругу холмов,
Мечетей, башен и дворцов
Теснятся мрачные громады…
А там, за бледной синей далью,
Чуть отуманенной печалью,
За цепью облаков седых,
Где чайка серая кружится,
В глухом тумане волн морских
Мое грядущее томится…
Бизерта
Погасли последние отблески зари…
Далеко в горах залаяли шакалы.
Светлой нитью зажглись фонари,
И новым шумом оживились кварталы.
Кричал разносчик, шагая по мостовой,
Арабчата дрались на тротуаре.
Яркие огни мешались с темнотой,
Гремела музыка в ближнем баре.
В арабской кофейне стоял гул голосов.
Мешались светы и шумы.
Недвижные фигуры сидели у столов,
Спускались широкие белые костюмы.
У белого квартала был загадочный вид.
Здесь не было слышно веселой публики.
(Улиц и переулков затейливый лабиринт,
Дома, похожие на большие кубики).
Лишь под кровлей одной светилось окно.
Гладкие стены теснились мрачно.
На узких улицах было совсем темно,
И было зловеще тихо и страшно.
«…В углу тихонько скребется мышь…»
…В углу тихонько скребется мышь.
Сфаят безмолвный уснул тревожно…
Средь стен дощатых и красных крыш
Все так возможно, все так ничтожно.
Обычны лица, их серый цвет,
Обычны фразы, мертвы желанья…
И страшной ночи зловещий бред
Звучит ответом на ожиданья.
Чуть слышен шепот из-за стены,
Воспоминанья о дне вчерашнем…
И снова вьются иные сны,
И плачет ветер о чем-то страшном.
Октябрьское утро
Ни дождя, ни ветра, ни тумана,
Утро — будто личико ребенка;
Лишь жужжание аэроплана
Тонкий воздух прорезает звонко.
Озеро спокойно и красиво,
Очертанья гор — ясней и ярче.
В бухте, на дредноуте массивном
Даже виден пестрый флаг на мачте.
Катера бесшумно прорезают
Голубые шелковые воды,
Под синеющими небесами,
Как игрушечные — пароходы.
Вижу, что-то в небе пробудилось,
Облако плывет, как белый лебедь.
И не знаешь, что в чем отразилось, —
Небо в море или море в небе.
Воздух ясен и прозрачно-тонок,
Море отливает бирюзою,
И покрылись выжженные склоны
Первой зеленеющей травою.
«Дай мне песен родины далекой…»
Дай мне песен родины далекой,
Неизвестной и несчастливой,
Чтобы не было так одиноко,
Так тоскливо и сиротливо.
Знаю что-то похожее на жалость,
На незваное желанье…
У меня от родины осталось
Только детское воспоминанье.
Страшно мне, что порвалось навеки
То, что нас соединяло прежде,
Что душа теперь уже калека
И не верит никакой надежде.
Дай мне песен родины далекой,
Повесть жизни призрачной и чудной,
Чтобы не было так одиноко,
Так тоскливо и бесприютно.
«Есть в лунном вечере черта…»
Есть в лунном вечере черта,
Когда кончается земное
И расцветает чернота.
Есть где-то грань в полдневном зное,
Когда обычное гнетет
И рвутся мысли в роковое.
То сон зовет, то звук цветет.
Над морем
Чуть слышный запах моря,
Соленый ветер щеки жжет;
На дымно-голубом просторе
Дымится серый пароход.
Тяжелый, шумный гул прибоя,
Блужданье чаек над волной,
И небо ярко-голубое
Над дымчатою бирюзой.
Какой-то сон несется мимо
И возвращается назад,
И красотой неуяснимой
Слепит горящие глаза.
Баллада о двадцатом годе
Стучали колеса…
«Мы там… мы тут»…
Прицепят ли, бросят?..
Куда везут?..
Тяжёлые вещи
В тёмных углах…
На холод зловещий
Судьба взяла.
Тела вповалку,
На чемоданах…
И не было жалко,
И не было странно…
Как омут бездонный
Зданье вокзала,
Когда по перрону
Толпа бежала.
В парадных залах
Валялись солдаты.
Со стен вокзала
Дразнили плакаты.
На сердце стоны:
Возьмут?.. Прицепят?..
Вагоны, вагоны —
Красные цепи.
Глухие зарницы
Последних боев,
Тифозные лица
Красных гробов.
Берут, увозят
Танки и пушки.
Визжат паровозы,
Теплушки, теплушки, —
Широкие двери
Вдоль красной стены.
Не люди, а звери
Там спасены.
Тревожные вести
Издалека.
Отчаянья мести
В сжатых руках.
Лишь тихие стоны,
Лишь взгляд несмелый,
Когда за вагоном
Толпа ревела.
Сжимала сильнее
На шее крестик.
О, только б скорее!
О, только б вместе!
Вдали канонада.
Догонят?.. Да?..
Не надо, не надо.
О, никогда!..
Прощальная ласка
Весёлого детства —
Весь ужас Батайска,
Безумие бегства.
Как на острове нелюдимом,
Жили в маленьком Туапсе.
Корабли проходили мимо,
Тайной гор дразнили шоссе.
Пулёмет стоял на вокзале.
Было душно от злой тоски.
Хлеб но карточкам выдавали
Кукурузной, жёлтой муки.
Истомившись в тихой неволе,
Ждали — вот разразится гроза…
Крест зелёный на красном поле
Украшал пустынный вокзал.
Было жутко и было странно
С наступленьем холодной тьмы…
Провозили гроб деревянный
Мимо окон, где жили мы.
По-весеннему грело солнце.
Тёплый день наступал не раз…
Приходили два миноносца
И зачем-то стреляли в нас.
Были тихи тревожные ночи,
Чутко слушаешь, а не спишь.
Лишь единственный поезд в Сочи
Резким свистом прорезывал тишь.
И грозила кровавой расплатой
Всем, уставшим за тихий день,
Дерзко-пьяная речь солдата
В шапке, сдвинутой набекрень.
Тянулись с Дона обозы,
И не было им конца.
Звучали чьи-то угрозы
У белого крыльца.
Стучали, стонали, скрипели
Колёса пыльных телег…
Тревожные две недели
Решили новый побег.
Волнуясь, чего-то ждали,
И скоро устали ждать.
Куда-то ещё бежали
Дымилась морская гладь.
И будто бы гул далёкий,
Прорезал ночную мглу:
Тоской звучали упреки
Оставшихся на молу.
Ползли к высокому молу
Тяжёлые корабли.
Пронизывал резкий холод
И ветер мирной земли.
Дождливо хмурилось небо,
Тревожны лица людей.
Бродили, искали хлеба
Вдаль Керченских площадей.
Был вечер суров и долог
Для мартовских вечеров.
Блестели дула винтовок
На пьяном огне костров.
Сирена тревожно и резко
Вдали начинала выть.
Казаки в длинных черкесках
Грозили что-то громить.
И было на пристани тесно
От душных, скорченных тел.
Из чёрной, ревущей бездны
Красный маяк блестел.
Нет, не победа и не слава
Сияла на пути…
В броню закопанный дредноут
Нас жадно поглотил.
И люди шли. Их было много.
Ползли издалека.
И к ночи ширилась тревога,
И ширилась тоска.
Открылись сумрачные люки,
Как будто в глубь могил.
Дрожа, не находили руки
Канатов и перил.
Пугливо озирались в трюмах
Зрачки незрячих глаз.
Спустилась ночь, страшна, угрюма.
Такая — в первый раз.
Раздался взрыв: тяжёлый, смелый.
Взорвался и упал.
На тёмном берегу чернела
Ревущая толпа.
Все были, как в чаду угара,
Стоял над бухтой стон.
Тревожным заревом пожара
Был город озарён.
Был жалок взгляд непониманья,
Стучала кровь сильней.
Несвязно что-то о восстанье
Твердили в стороне.
Одно хотелось: поскорее
И нам уйти туда,
Куда ушли, во мгле чернея,
Военные суда.
И мы ушли. И было страшно
Среди ревущей тьмы.
Три ночи над четвёртой башней.
Как псы, ютились мы.
А после в кубрик опускались
Отвесным трапом вниз,
Где крики женщин раздавались
И визг детей и крыс.
Там часто возникали споры:
Что — вечер или день?
И поглощали коридоры
Испуганную тень.
Впотьмах ощупывали руки
И звякали шаги.
Открытые зияли люки
У дрогнувшей ноги, —
Зияли жутко, словно бездны
Неистовой судьбы.
И неизбежно трап отвесный
Вёл в душные гробы.
Всё было точно бред: просторы
Чужих морей и стран,
И очертания Босфора
Сквозь утренний туман.
По вечерам — напевы горна,
Торжественный обряд.
И взгляд без слов — уже покорный,
Недумающий взгляд;
И спящие вповалку люди,
И чёрная вода;
И дула боевых орудий,
Умолкших навсегда.
Из сборника «Стихи о себе» (Париж, 1931)

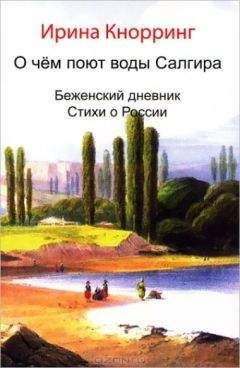

![Ирина Кнорринг - Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 1](/uploads/posts/books/41661/41661.jpg)
