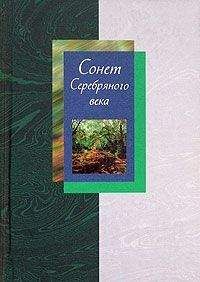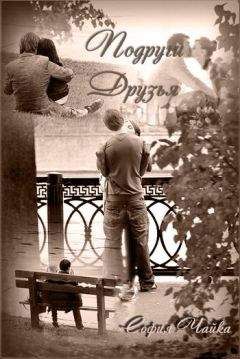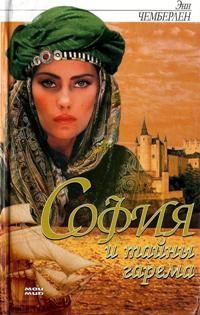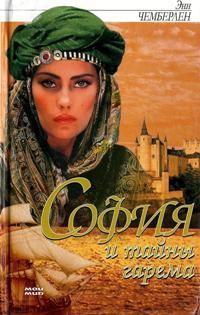София Парнок - Разрыв-трава
В 1926 году появляется ещё одно очень характерное стихотворение на эту тему:
Песня
Дремлет старая сосна
И шумит со сна.
Я к шершавому стволу,
Прислонясь, стою. —
Сосенка-ровесница,
Передай мне силу!
Я не девять месяцев, —
Сорок лет носила,
Сорок лет вынашивала,
Сорок лет выпрашивала,
Вымолила, выпросила,
Выносила
Душу.
Ещё раз дадим слово Д. Л. Бургин: «Рождение души и было той «кастальской струёй», которую она стремилась получить взамен на «вино причастья». Взамен «вина причастья» — всего того, что доступно обычным, «нормальным» людям, — поэт получает в награду возможность творческого выражения, ту самую «Кастальскую струю», которая Парнок дороже всего. Выношенная душа является результатом напряжённой духовной работы, неразрывно связанной с творчеством, которую София Яковлевна вела всю свою сознательную жизнь.
Как можно понять из приведённых примеров, понятие «любовь» непременно включало для поэта духовную составляющую. Конечно же, страсть играла в отношениях с возлюбленными далеко не последнюю роль, и множество стихотворений, написанных Парнок в периоды влюблённостей, являются несомненными тому подтверждениями, но эта сторона её творчества не просто подробно изучена, а — растиражирована, и найти исследования и описания эротических переживаний русской Сафо несложно. А вот о том, как понимала и что писала она о духовной близости в любви, о том, что это чувство испытывалось ею во всей полноте прежде всего эмоциональных и душевных переживаний, сказано и написано очень мало. По сути, мы имеем всего два серьёзных исследования жизни и творчества Софии Парнок. Это вступительная статья к сборнику «София Парнок. Собрание стихотворений» С. В. Поляковой и «София Парнок. Жизнь и творчество русской Сафо» Д. Л. Бургин. Но они выполнены чрезвычайно подробно и академично, и не у каждого читателя достанет сил пробиться через сложную научную терминологию и одолеть десятки страниц серьёзного филолого-психологического исследования. А всё остальное, что написано о Парнок, на 99 % — перепевы одной и той же темы — отношений Парнок и Цветаевой. Несомненно, это был важный период в жизни обеих поэтов, но всё же только период. Творчество каждой из них имеет отдельную, самостоятельную ценность.
Свой путь
Но впусте мне наскучило,
И цвет пустила примула.
Из шапки крайних случаев
Я запредельный вынула.
Из предисловия к книге Д. Л. Бургин: «Как большой русский поэт София Парнок предъявила себя очень поздно, уже на закате дней, на подступах к небытию, и тем ярче и откровеннее звучали её любовные стихи, выйдя за границы герметизма и самодостаточности, отбросив все прежние культурные аллюзии, поправ тем самым негласные «нормы цивилизованного общежития». Лирика — беззащитная и жалкая, умоляющая, алчущая со-участия, — вот перечень последних завоеваний поэта».
Следует заметить, что такой результат стал возможен благодаря тому, что София Парнок никогда не изменяла себе как поэт и как личность, всегда и везде шла только своим путём. Заблуждаясь, ошибаясь, честно платя за все свои ошибки, она всегда «выбредала», возвращалась на свою, именно ей предназначенную дорогу — и в жизни, и в творчестве.
В этом её врождённая инакость, видимо, даже помогала, не давая слиться, отнимая возможность мимикрировать. Попробуй, стань как все, когда ты «косматый выкормыш стихий» и «ни один зоолог не знает, что это за зверь». А попытки стать как все — были. В 1907 году София Парнок выходит замуж за Владимира Волькенштейна — поэта, драматурга, театрального критика и сценариста (брак был заключён по иудейскому обряду). Но неудачный брак продержался недолго. В 1909 году он распался, инициатором развода выступила София Яковлевна. С тех пор она обращала своё чувство только на женщин. В этом же году (по другим сведениям — в 1913-м) София Парнок принимает православие, идя наперекор семейной и национальной традиции — родилась она в еврейской зажиточной семье, хоть и не очень религиозной, но исповедовавшей иудаизм. Вот так, постепенно, методом проб и ошибок, поэт училась понимать и принимать себя, отстаивать право на то, чтобы жить в соответствии со своей натурой.
В творчестве же — любом — стать настоящим художником имеет шанс только яркая индивидуальность. Здесь нет и не может быть никаких схем и правил, кроме одного: будь всегда честным, выражай именно ту реальность, которую видишь, слышишь, ощущаешь, не криви душой ни в одной строчке в угоду моде или конъюнктуре. Именно так жила и писала Парнок.
Моё увлечение её стихами началось с книги, подаренной подругой. Открыла из любопытства, и с первых строф меня затянуло в мир Софии Парнок, не похожий ни на какой другой. Прекрасно сказал об этом Ходасевич: «…любители поэзии умели найти в её стихах то «необщее выражение», которым стихи только и держатся. Не представляя собою поэтической индивидуальности слишком резкой, бросающейся в глаза, Парнок в то же время была далека от какой бы то ни было подражательности. Её стихи, всегда умственные, всегда точные, с некоторою склонностью к неожиданным рифмам, имели как бы особый свой «почерк» и отличались той мужественной чёткостью, которой так часто недостаёт именно поэтессам».
Удивительно, что даже рядом с мощным талантом Марины Цветаевой Софии Парнок удалось сохранить свою поэтическую индивидуальность, свой стиль, не поддаться, избежать её влияния. Я думаю, это было так же трудно, как не сгореть, находясь рядом с огнедышащим вулканом. Но София Яковлевна смогла это сделать. Из сложных отношений с Цветаевой она, как птица-Феникс, вышла не без душевных ран, но с неизменно самостоятельной творческой физиономией.
Не придут, и не всё ли равно мне, —
вспомнят в радости или во зле?
Под землёй я не буду бездомней,
чем была я на этой земле.
Ветер, плакальщик мой ненаёмный,
надо мной вскрутит снежную муть...
О печальный, далёкий мой, тёмный,
мне одной предназначенный путь!
Эти строки, написанные в 1917 году, выражают кредо всей жизни поэта.
Когда Булгаков написал свою знаменитую фразу «Рукописи не горят», он, конечно же, имел в виду, что не горят рукописи определённого сорта — те, в которых если и не содержится истина, то хотя бы сделана попытка приблизиться к ней. Стихи Софии Парнок относятся именно к таким рукописям. Не оценённые по достоинству при её жизни, забытые почти на век после её ухода, они возвращаются к нам. «Незнакомка с челом Бетховена» оказалась ко двору в двадцать первом веке. В её хрупкой, болезненной физической оболочке жил несгибаемый дух — стебелёк и вправду оказался из стали.
Лера Мурашова
Иллюстрации:
фотографии Софии Парнок разных лет;
Н. Крандиевская: скульптурный портрет С. Парнок, 1915;
обложка книги стихотворений поэта «Вполголоса» (Москва, 2010) — в книгу вошли все стихотворения, выявленные на момент издания, в оформлении использована фотография 1914 года;
обложка CD-диска с песнями Елены Фроловой на стихи Софии Парнок, в оформлении использована фотография 1910-х годов;
могила Софии Парнок на Введенском кладбище Москвы
Разрыв-трава
Е. К. Герцык
Кто разлюбляет плоть, хладеет к воплощенью:
Почти не тянется за глиною рука.
Уже не вылепишь ни льва, ни голубка,
Не станет мрамором, что наплывает тенью.
На полуслове — песнь, на полувзмахе — кисть
Вдруг остановишь ты, затем что их — не надо...
Прощай, прощай и ты, прекрасная корысть,
Ты, духа предпоследняя услада!
Ведь я пою о той весне,
Которой в яви — нет,
Но, как лунатик, ты во сне
Идёшь на тихий свет.
И музыка скупая слов
Уже не только стих,
А перекличка наших снов
И тайн — моих, твоих...
И вот сквозит перед тобой
Сквозь ледяной хрусталь
Пустыни лунно-голубой
Мерцающая даль.
Вокруг — ночной пустыней — сцена.
Из люков духи поднялись,
И холодок шевелит стены
Животрепещущих кулис.
Окончен ли или не начат
Спектакль? Безлюден чёрный зал,
И лишь смычок во мраке плачет
О том, чего недосказал.
Я невпопад на сцену вышла
И чувствую, что невпопад
Какой-то стих уныло-пышный
Уста усталые твердят.
Как в тесном платье, душно в плоти, —
И вдруг, прохладою дыша,
Мне кто-то шепчет: «Сбрось лохмотья,
Освобождённая душа!»
Ради рифмы резвой не солгу,
Уж не обессудь, маститый мастер, —
Мы от колыбели разной масти:
Я умею только то, что я могу.
Строгой благодарна я судьбе,
Что дала мне Музу-недотрогу:
Узкой, но своей идём дорогой.
Обе не попутчицы тебе.
А под навесом лошадь фыркает
И сено вкусно так жуёт...
И, как слепец за поводыркою,
Вновь за душою плоть идёт.
Не на свиданье с гордой Музою
— По ней не стосковалась я, —
К последней, бессловесной музыке
Веди меня, душа моя!
Открыли дверь, и тихо вышли мы.
Куда ж девалися луга?
Вокруг, по-праздничному пышные,
Стоят высокие снега...
От грусти и от умиления
Пошевельнуться не могу.
А там, вдали, следы оленьи
На голубеющем снегу.
И распахнулся занавес,
И я смотрю, смотрю
На первый снег, на заново
Расцветшую зарю,
На розовое облако,
На голубую тень,
На этот, в новом облике
Похорошевший день...
Стеклянным колокольчиком
Звенит лесная тишь, —
И ты в лесу игольчатом
Притихшая стоишь.
Под зеркалом небесным
Скользит ночная тень,
И на скале отвесной
Задумался олень —
О полуночном рае,
О голубых снегах...
И в небо упирает
Высокие рога.
Дивится отраженью
Заворожённый взгляд:
Вверху — рога оленьи
Созвездием горят.
В полночь рыть выходят клады,
Я иду средь бела дня,
Я к душе твоей не крадусь, —
Слышишь издали меня.
Вор идет с отмычкой, с ломом,
Я же, друг, — не утаю —
Я не с ломом, я со словом
Вышла по душу твою.
Все замки и скрепы рушит
Дивная разрыв-трава:
Из души и прямо в душу
Обращённые слова.
Всё отдалённее, всё тише,
Как погребённая в снегу,
Твой зов беспомощный я слышу,
И отозваться не могу.
Но ты не плачь, но ты не сетуй,
Не отпевай свою любовь.
Не знаю где, мой друг, но где-то
Мы встретимся с тобою вновь.
И в тихий час, когда на землю
Нахлынет сумрак голубой,
Быть может, гостьей иноземной
Приду я побродить с тобой...
И загрущу о жизни здешней,
И вспомнить не смогу без слёз
И этот домик, и скворешню
В умильной проседи берёз.
Дремлет старая сосна
И шумит со сна.
Я, к шершавому стволу
Прислонясь, стою.
— Сосенка-ровесница,
Передай мне силу!
Я не девять месяцев, —
Сорок лет носила,
Сорок лет вынашивала,
Сорок лет выпрашивала,
Вымолила, выпросила,
Выносила
Душу.
За стеною бормотанье,
Полуночной разговор...
Тихо звуковым сияньем
Наполняется простор.
Это в небо дверь открыли, —
Оттого так мир затих.
Над пустыней тень от крыльев
Невозможно-золотых.
И прозрачная, как воздух,
Едкой свежестью дыша,
Не во мне уже, а возле
Дышишь ты, моя душа.
Миг, — и оборвется привязь,
И взлетишь над мглой полей,
Не страшась и не противясь
Дивной лёгкости своей.
Ты уютом меня не приваживай,
Не заманивай в душный плен,
Не замуровывай заживо
Меж четырех стен.
Нет палаты такой, на какую
Променял бы бездомность поэт, —
Оттого-то кукушка кукует,
Что гнезда у неё нет.
Об одной лошадёнке чалой
С выпяченными рёбрами,
С подтянутым, точно у гончей,
Вогнутым животом.
О душе её одичалой,
О глазах её слишком добрых,
И о том, что жизнь её кончена,
И о том, как хлещут кнутом.
О том, как седеют за ночь
От смертельного одиночества,
И ещё — о великой жалости
К казнимому и палачу...
А ты, Иван Иваныч,
— Или как тебя по имени, по отчеству —
Ты уж стерпи, пожалуйста:
И о тебе хлопочу.
Е. Я. Тараховской