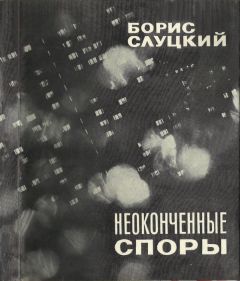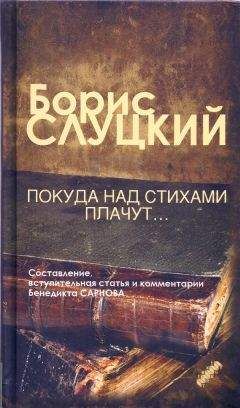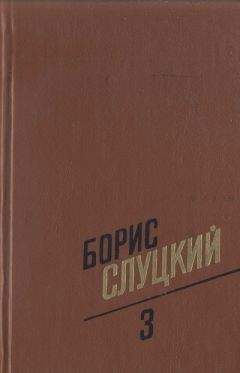Борис Слуцкий - Лошади в океане
Русский философ Ильин писал, что истинное правосознание — категория религиозная. И в этом смысле атеист Слуцкий («В самый темный угол / меж фетишей и пугал / я Тебя поместил. / Господи, ты простил?») — человек глубоко верующий. Во что? Прежде всего — в необходимость и неизбежность высшей справедливости. Его стихи — свидетельства, должны быть выслушаны на страшном суде истории, да и просто — на Страшном Суде. Но еще до него по этим стихам можно и нужно изучать реальную истории России XX века. И историю Великой Отечественной — в частности. Точность поэтического слова и абсолютная честность свидетеля и соучастника истории Бориса Слуцкого — гарантия достоверности на уровне засекреченных документов из президентского архива.
Вот какова, по показаниям Слуцкого, судьба тысяч и тысяч до сих пор не захороненных солдат той войны, погибавших отнюдь не только от немецких пуль и снарядов:
Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.
Не выдержал. Не смог. Убег.
Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.
Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.
Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.
До речки не дойдя Днепра,
Он тихо канул в речку Лету.
Все это сделано с утра,
зане[1] жара была в то лето.
Ну а потом была Победа… И двадцатишестилетний майор Слуцкий вновь почувствовал себя молодым — «четыре года зрелости промчались», и весь мир снова был перед ним распахнут, как синее небо юности. Но это ощущение длилось недолго. Фронтовик, прошедший «длинную войну» от самого начала до конца, получивший на ней, помимо трех советских орденов и болгарского ордена «За храбрость», тяжелую контузию, которую лечил стихами и вылечил («Но вдруг я решил написать стих, / тряхнуть стариной. / И вдруг головной тик — стих, / что-то случилось со мной…»), несколько послевоенных лет не мог даже устроиться на работу — подрабатывал на радио. Советский бог продолжал испытывать веру советского Иова:
Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны…
А нужны были от «победителя гитлеровских полчищ», который «и рубля не получил на водку, хоть освободил полмира», только покорность и терпение. Советский бог (как тут не вспомнить: «Однажды я шел Арбатом, / Бог ехал в пяти машинах…»?) этого и не скрывал — на приеме фронтовиков в Кремле в честь Победы высказался прямо:
Сталин взял бокал вина
(может быть, стаканчик коньяка),
поднял тост — и мысль его должна
сохраниться на века:
за терпение!
…Трус хвалил героев не за честь,
а за то, что в них терпенье есть.
…Страстотерпцы выпили за страсть,
выпили и закусили всласть.
Как известно, победители в войнах усваивают нравы и обычаи побежденных. Наши фронтовики повидали Европу, ее цивилизационные достижения. Не потому ли «верхами» была развязана кампания борьбы с «безродным космополитизмом», «низкопоклонством перед Западом»? И в то же время сердцевиной борьбы с космополитизмом стал хорошо усвоенный фашистский антисемитизм, ставший государственной сталинской политикой, не изжитой до сих пор. Этот государственный антисемитизм, больно ударивший верившего в советский интернационализм Слуцкого, — так же относился лично к нему, как и «ненужность» после войны:
Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи — люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорилось нелживо:
«Евреев не убивало!
Все воротились живы!»
Именно Слуцкий — еще до XX съезда — написал мощные антисталинские стихи «Бог» («Мы все ходили под богом…») и «Хозяин» («А мой хозяин не любил меня…»), которые стали широко известны. Неудивительно, что Илья Эренбург, придумавший в качестве обозначения послесталинского государственного вегетарианства слово «оттепель», провозгласил первым поэтом этой «оттепели» Слуцкого. Его статья в «Литгазете» (1956 год) о Борисе Слуцком[2] вышла еще до первой книги поэта и произвела фурор. «Оттепели», как писал Самойлов, нужна была поэтическая капель.
И сам Слуцкий поверил в «оттепель», даже в ренессанс.
* * *Вообще 1956–1957 годы были самыми счастливыми в его жизни. После разоблачения «культа личности» Сталина, уже в 1957 году вышла первая книга Слуцкого «Память», вызвавшая огромный читательский интерес. С началом «оттепели» он и сам, как человек и мужчина, как будто оттаял. И сразу же встретил свою единственную настоящую любовь — Татьяну Дашковскую.
К тому времени Слуцкий получил от Союза писателей квартиру — совместно с семьей Григория Бакланова. Вскоре после встречи с Таней договорился о размене. И размен удался! У него впервые появилась своя отдельная квартира (до этого, как любил повторять, снимал 22 комнаты). Эта маленькая квартира располагалась недалеко от Рижского вокзала (так же недалеко от Рижского вокзала, на Пятницком кладбище, он и похоронен) и проходила по какому-то железнодорожному ведомству. Даже телефон был с коммутатором. В этой своей единственной за всю жизнь квартирке Слуцкий был счастлив.
Но наступил 1958 год.
Как гром среди ясного «оттепельного» неба прогремела история с публикацией за границей «Доктора Живаго» Пастернака и Нобелевской премией за роман. Слуцкому предложили (мягко говоря) выступить на позорном собрании Московской писательской организации, исключившей Пастернака из Союза писателей. Евгений Евтушенко, который тогда пытался его остановить, говорит сейчас: «Но может же человек один раз в жизни поскользнуться». Александр Межиров рассказывал, что сам накануне рокового дня улетел в Тбилиси, а оттуда уехал на такси в Ереван, чтобы только его не нашли, «но Слуцкий так поступить не мог — другой характер». Сам Слуцкий писал о себе: «Уменья нет сослаться на болезнь…» И выступил. Осудил Пастернака.
Вот что рассказывает об этой трагедии Петр Горелик:
«Прежде чем передать запомнившееся мне объяснение самого Бориса, должен со всей определенностью сказать: Слуцкий не тот человек, который мог пойти на это по каким-либо конъюнктурным соображениям. Вся его жизнь, вся его поэзия тому подтверждение.
Один-единственный раз говорили мы с ним об этом. Да и другие его друзья старались не напоминать ему, понимая, как он сам трагически переживает случившееся.
Наш разговор состоялся, когда мы впервые после происшедшего встретились в Москве. Я рискнул спросить Бориса о его выступлении. Борис не оправдывался, но ссылался на сильный нажим, на вызов в ЦК. Он был прижат к стенке положением секретаря парторганизации поэтической секции Московской писательской организации. Ему оставалось, по его собственному выражению, „выступить как можно менее неприлично“. Наш разговор он закончил прямо и однозначно: „Отказавшись, я должен был положить партийный билет. После XX съезда я этого не хотел и не мог сделать“. Я понял его слова как выражение поддержки „оттепели“.
Борис, единственный из выступавших (а председательствовал на том собрании Сергей Сергеевич Смирнов, выступал и Леонид Мартынов, не говоря уже о многочисленных софроновых), так вот, только Борис не поддакнул председателю КГБ Семичастному[3] с его отвратительным сравнением — он назвал Пастернака „свиньей, которая гадит там, где ест“; в словах Слуцкого не было и намека на требование изгнать Пастернака из страны и из Союза писателей, не было никаких отрицательных высказываний о художественных достоинствах поэзии Пастернака. А что „поэт должен искать признания на родной земле, а не у заморского дяди“ (цитирую по стенограмме выступления Слуцкого, ныне опубликованной), так это соответствовало глубокому убеждению Слуцкого. Ему самому никогда не приходило в голову напечатать за границей сотни своих стихов, не имевших шанса быть опубликованными на родине, хотя там нашлось бы немало желающих. Думаю, что резко отрицательное отношение Бориса к публикациям за границей было одной из тех щелочек, сквозь которую удалось убедить его выступить.