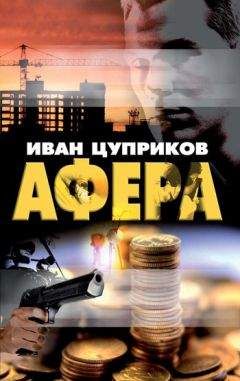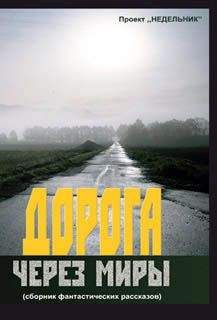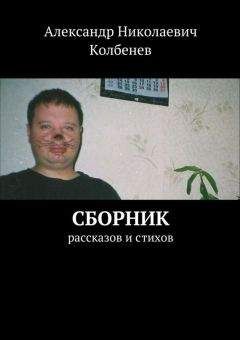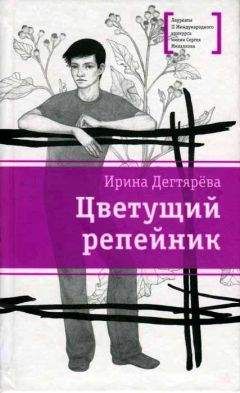Иван Цуприков - Югорские мотивы: Сборник рассказов, стихов, публицистических статей
Наступило 9 мая 1972 года. В пять часов утра я дал команду Леневу открыть кран на 377-м километре трассы. Этот день можно считать началом рождения системы магистральных газопроводов с месторождений севера Тюменской области (СРТО – Урал).
Не все, конечно, делалось абсолютно правильно, и сейчас, оглядываясь назад, видны эти просчеты. Но это было время, когда накапливался опыт прокладки газопроводов большого диаметра в районах многолетнемерзлых грунтов, в условиях бездорожья, сезонности строительства и высочайших объемов приема газа от промыслов и его транспорта в места потребления. В 1974 году тюменский газ поступил к потребителям центральных районов Европейской части страны. И в начале этого пути стоял коллектив «Газпром трансгаз Югорск».
По словам главного инженера В.Ф. Усенко: «В то время в Нижней Туре, Краснотурьинске и Ивделе работало по одному цеху с пятерочными агрегатами (ГТ-700-5), в Пелыме, Комсомольском и Пунге – с шестерочными (ГТ-6-750). На северном регионе в Белом Яре, Лонг-Югане и Надыме на первых двух нитках цехов еще не было, их только начинали строить. И при этом любая аварийная ситуация была связана с отключением газопровода, что автоматически приводило к сокращению подачи газа потребителям на 15–20 миллионов кубометров в сутки. Вопрос ликвидации аварии в кратчайшие сроки был огромной важности и находился под контролем министра.
День 20 января 1973 года мне запомнился навсегда. В это время работал только один газопровод – Медвежье – Надым – Пунга-1 – и шло строительство второй нитки. На отрезке Белый Яр – Пунга уже работало по одному компрессорному цеху, в Комсомольском подходило к завершению строительство второго цеха. И вот 20 января произошел разрыв труб газопровода между поселками Белым Яром и Пунга. А в это время в течение суток температура воздуха опустилась с двадцати до шестидесяти градусов мороза. Мы вместе с начальниками отделов В.В. Овсиенко и Н.С. Юнусовым вылетели на место аварии.
Задача нашей аварийно-ремонтной бригады состояла в том, чтобы вырезать разорванные трубы и смонтировать новые. Мы тогда впервые столкнулись с проблемой, что при таком морозе газообразный пропан из баллонов не выходил, а еле-еле тек, и эти баллоны постоянно приходилось согревать в кабине машины. Потом их быстро выносили и подключали. Удавалось произвести рез в пять-десять сантиметров, и снова надо было нести баллоны в машину. Все шесть трубоукладчиков не выдержали работы при такой температуре – остановились, а люди работали.
На пятый день монтаж аварийного участка был закончен. Но в этот день произошла новая авария в районе Лонг-Югана. И только закончили там работы по монтажу, на следующий день пришло потепление, температура с минус шестидесяти поднялась до минус сорока пяти. Люди вздохнули, расстегнулись, а замминистра Щепкин, который руководил этими работами вместе со мной и Яковлевым, смеется: мол, весной запахло. Но в ту ночь мы чуть не потеряли В.В. Ленева, начальника ЛЭС Казымского ЛПУ МГ. По окончании работ ему была поставлена задача: выехать на 225-й километр и открыть кран. Они с водителем были до такой степени уставшие, что, выполнив эту работу, уснули в кабине. Их спас вовремя прибывший туда инженер Николай Федорович Федоров: растолкал их, привел в чувство и доставил к нам.
Были случаи, когда люди боялись идти на выполнение тех или иных работ, связанных с опасностью. И наше дело – дело руководства – в таких случаях заключалось не только в организации работ, но и в том, чтобы самим показывать пример. Помнится случай, когда на линии магистрального газопровода в Пелыме разорвало газопровод. Он находился в заболоченной местности, гусеничной техникой работать там было невозможно. Нам удалось установить один из трубоукладчиков на „Формост“, верхняя часть гусениц которого тут же покрылась болотной жижей, и он начал тонуть.
Приняли решение использовать вместо трубоукладчика вертолет Ми-6. Он на станции Кершаль с вагона брал трубу, „привозил“ ее на трассу, опускал в траншею, и наши работники благодаря высокому опыту летчиков производили ее монтаж и сварку. Не каждый был готов работать, когда над его головой в трех-пяти метрах висела ревущая махина с пятитонной трубой. Тем не менее нашлись люди, которые перебороли страх и справились с поставленной задачей, На этом участке было уложено и сварено более 20 единиц труб, это около 280 метров трубы.
Были и другие случаи, когда под давлением на газопроводе укладывали пригруза, когда работали по восстановлению линейной части газопровода и рядом взрывалась другая нитка, – вспоминает В.Ф. Усенко. – Никто не гарантировал нам, что эти работы будут безопасными. Но мне везло, на тех аварийных работах, в которых участвовал я, потерь не было.
С 1972 года началось большое строительство новых компрессорных станций и газопроводов. Первая нитка газопровода Медвежье – Надым, впервые в мире сооруженная из труб диаметром 1420 мм на 75 атмосфер, разветвлялась на две нитки диаметром 1220 мм с давлением 55 атмосфер на нулевом километре Надымского участка. Затем началось широкомасштабное строительство газопроводов диаметром 1420 мм на давление 75 атмосфер, которые шли от Уренгойского месторождения: Уренгой – Надым-1, Уренгой – Грязовец, Уренгой – Петровск, Уренгой – Новопсков. Специалисты „Тюментрансгаза“ принимали самое активное участие в их строительстве, в технадзоре и пуско-наладке».
Пунга, Белый Яр, Лонг-Юган…
«В 1975 году, – продолжает свой рассказ В.Ф. Усенко, – мы впервые в мире в декабре при сорокаградусном морозе провели испытание второго цеха на Пунгинской компрессорной станции водой. Строительство этого цеха было уникальным. Первого сентября меня назначили председателем госкомиссии по его пуску и вводу в эксплуатацию. На месте цеха в тот момент были забиты только сваи, часть оборудования еще не была доставлена в Пунгу. А станцию нужно было сдать и пустить через три месяца, к Новому году.
Вместе со мной этими работами руководили главный технолог производственного отдела по компрессорным станциям Карл Фридрихович Отт, по КИПиА – начальник отдела Шаукат Хуснулович Сальманов. Работали со строителями круглосуточно, на износ. И 25 декабря мы все-таки вышли на испытания технологии цеха. Вначале подали газ с давлением до 10 атмосфер и проверили технологическую обвязку КС на плотность. Выявленные утечки устранили после стравливания газа. Потом закачали воду и начали подъем давления прессовочным агрегатом. И произошла буквально парадоксальная ситуация. Под давлением воды, оставшейся после стравливания, газ в трубах начал выходить через неплотности „свечей“, и они загорелись.
Было впечатление, что горит вся станция. У людей – испуг, начинают метаться. Но через пять-десять минут все успокоилось, вода затушила огонь. Испытание цеха прошло без сучка без задоринки. И 29 декабря его подключили к магистральному газопроводу и начали осуществлять пуск турбин в трассу. Люди не выдерживали таких изнурительных испытаний. Помню, Отт тогда после запуска турбин вышел из цеха и упал без сознания…»
«Было столько первых пусков цехов в объединении: Надым, Лонг-Юган, Сорум, Белый Яр, Пунга, Сосьва, Пелым, Ивдель, Нижняя Тура, – рассказывает бывший начальник производственно-технического отдела Карл Фридрихович Отт, – что даже не помню того первого дня по пуску турбин в Краснотурьинском ЛПУМГ. Все пуски турбин, как рок, проходили только ночью. Целый день готовим станцию, проверяем турбоагрегаты, еще пять минут, не забыли ли то-то, потом еще пять минут, и так до ночи. Хотя ночью работать намного легче, лишних людей на станции нет, уже никто не отвлекает специалистов, все работают целеустремленно и четко. Сменными инженерами у нас работали Н.П. Пырегов, А.А. Вязьмитинов, В.А. Ряжских, машинистами – Е.И. Никулин, В.А. Редькин, слесарями-ремонтниками – В.Е. Мерзлов, Б.В. Кочкин, А.Я. Шваб. Это был узкий круг очень надежных специалистов, которым в будущем пришлось поработать на пуске и наладке многих новых компрессорных станций.
Когда меня перевели в управление СУУМГ на должность главного технолога отдела по компрессорным станциям, то, честно скажу, в своем кабинете бывал редко. Главная моя работа заключалась в пусках цехов. К 31 декабря 1973 года мы должны были запустить цех в Лонг-Югане по первой нитке газопровода Надым – Пунга – Нижняя Тура.
Две недели оставалось до пуска, строители не успевали, было очень много недоделок, и мы подключились к монтажу и наладке оборудования вместе с ними.
В ЛПУМГ для размещения эксплуатационного персонала было всего десять вагончиков. В них спали по очереди по три-четыре часа, остальное время проводили на работе. И добились своего: 31 декабря цех был подключен к газопроводу».
Лонг-Юганская компрессорная станция (находится в Надымском районе) около года после своего пуска эксплуатировалась за счет командировочных. На месте были только ее руководитель Борис Иванович Климов и небольшой костяк специалистов, прибывших с ним из Нижнетуринского ЛПУМГ. И лишь после ввода в этом поселке первого деревянного двухэтажного дома здесь начал формироваться постоянный трудовой коллектив.