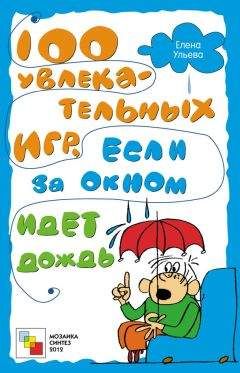Евгений Витковский - Век перевода. Выпуск первый (2005)
ОСЕННЯЯ МЕЛАНХОЛИЯ
Сад не увянет. У меня нет сада.
Нет дома, где бы ветер плакал от досады.
Не причиняет боль мне туч свинцовых клетка,
Поскольку небо вижу я и так довольно редко.
Я к звездам не стремлюсь уже, как прежде.
Мне газовый фонарь укажет путь к надежде.
Не огорчит беда, не впечатлит отрада.
Мне осень не страшна,
Ведь у меня нет сада…
ПОД ХМЕЛЬКОМ
От коньяка мне стало хорошо.
Уже танцуют стены и предметы!
Их надо поблагодарить за это
и заключить, что хмель мой не прошел.
Ну вот, опять я лишь навеселе.
Ни разу в жизни не пришлось надраться.
Иной бы разум кануть рад стараться
на дно стакана… Мой всегда в седле.
С роскошным фраком пью на брудершафт.
Движенья верны, каждый жест отточен.
Рассудок мой при этом, между прочим,
пасет меня, исследуя ландшафт.
И вспомнив день похожий, год назад,
хочу тихонько к двери прислониться.
Лишь хмель со мной… И впору удивиться:
так для кого же новый мой наряд?
Тебя опять, конечно, рядом нет,
когда мне плохо. В основном — ночами.
Под бой часов похмелье гасит свет…
— И завтра снова буду я в печали.
НА СТОЛИКЕ В КАФЕ НАЦАРАПАНО…
Со мной такого прежде не бывало;
других я вечно заставляла ждать.
Сижу среди кофейного развала…
А стоит ли — пора вопрос задать.
Всё по-иному, чем в былые дни.
Мы понимаем: наша песня спета…
Не спрашивай — слова нам не нужны,
нет смысла даже говорить об этом.
Уж заполночь! Последний гость не в счет…
Я в городе, где, огибая сушу,
четыре миллиона душ течет,
но редко встретишь родственную душу.
МЕЛАНХОЛИЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ
Когда одна я, дом и не живет.
Чужие существа глядят с портретов.
Здесь книги, мной оставленные где-то…
Гвоздики вянут, сохнет бутерброд.
Тоска. Шумит хозяйская родня.
И остается лишь в кино податься.
— С Эллен мне было так легко общаться…
Она помолвлена, и ей не до меня.
…Год пролетел, как не было его,
оставив от меня лишь оболочку.
Врач скажет: нервы, ужин в одиночку…
Живут же как-то люди, ничего.
Мне снится иногда: сирень цветет.
Порою вижу сон такой банальный,
чтобы проснуться в комнате опальной
(почуяв: холод с улицы идет)
и вместо нежных веток голубых
срывать листы календаря сухие,
сворачивать тоски своей стихию
и прятать узы летних снов своих.
Всё так же мерзнет под моим окном
сирени куст, темнеет снег на грядках.
Дымится печь. И требует порядка
и новых светлых стен хозяйский дом.
Мой близкий друг уехал от меня.
И птичка улетела в непогоду.
И буря гнет свое день ото дня.
Лишь я сижу и жду весны прихода.
ПОЗДНИМИ НОЧАМИ
Притихли все дома во всех кварталах,
таверны спят и танцевальный зал.
Всё смолкло — вплоть до песенки усталой,
что уличный мальчишка напевал.
Машины спят, заводы опустели.
И грезят дети счастьем и весной.
Супруги возвращаются домой,
на шторах пляшут их худые тени.
Автобус, грохоча, ночной асфальт утюжит.
Бродяга на скамье простужено храпит.
И слепо пес чужой вдоль подворотен кружит,
оплакивая тех, кем брошен и забыт.
Как черное рванье, нависла ночь земная.
В своих кроватях те, кто там и должен быть.
Луне самой давно пора глаза закрыть.
Лишь те, кто болен, бодрствуют, стеная.
Так тихо, словно в мире горя нет.
И о борьбе за хлеб дневная песня спета.
— Лишь смерть свое продолжит дело где-то.
Об этом мы узнаем из газет…
Владимир Глозман{11}
Иегуда Галеви (до 1075 — после 1141)
***
Рвется сердце мое на Восток —
На крайнем Западе я.
Ни вкусной едою
Уже не могу наслаждаться,
Ни бремя долгов и забот
Не могу нести я, когда
Потомки Исава в Сионе,
А я в сетях Исмаила.
Ничем уж не манят меня
Щедроты испанского края:
Дороже всего мне — взглянуть
На руины сожженного храма.
ИММАНУЭЛЬ РИМСКИЙ (МАНОЭЛЛО ДЖУДЕО) (1261? - 1532?)
***
Корона всех времен с вершин слетела —
Звезда зари покинула чертог.
Цветы засохли, урожай убог —
Земля лохмотья траура надела.
Померкли небеса, весь мир скорбит;
Сиянья месяц сроком смерти стал,
И стонами его заполонит
Звезда зари, покинув пьедестал.
Звезда зари! Теперь я смерть хвалю
С тобою в паре — и ее люблю:
Чудесна смерть, хоть и тебе не пара,
Твоих достоинств ей не умалить.
А сладостью твоею напоить —
Смерть станет слаще меда и нектара.
ЭФРАИМ ЛУЦАТТО (1121–1192)
***
Влюбленная красавица-девица
Пришла к врачу, лекарство попросила:
Мол, столько дней душа ее томится,
И днем и ночью давит с новой силой.
Едва девица пред врачом предстала,
Проверил — нет ли у больной горячки.
Тут у него вдруг сердце воспылало,
Проснулись чувства, точно после спячки.
От изумленья онемел мужчина,
Тогда девица вновь заговорила:
«Неужто, врач, болезнь неизлечима?»
А он в ответ: «Не бойся, о девица,
Ты лучше б рану мне теперь зашила.
Не врач я, самому пора лечиться».
ШАУЛЬ ЧЕРНЯХОВСКИЙ (1875–1943)
***
Смотри, о земля, какими мы мотами были!
В лоне твоем благодатном мы прятали зерна, не более…
Жемчужинки полбы, тяжелые зерна пшеницы,
Ячмень золотой, чьи колосья пугливей лисицы.
Смотри же, земля, какими мы мотами были:
Цветы — из свежайших, из лучших — мы в землю зарыли,
Лишь солнце их первым своим поцелуем коснулось
(Красу свою прячет бутон, чаша едва распахнулась) —
Зарыли. И полдень не знал их наивной печали,
И вкуса росы их ростки в полусне не узнали.
Бери наших лучших, влюбленных в мечту сыновей:
Сердца их и руки чисты. Но стать им грязью твоей.
Их дни были нитями в ткани чистейших надежд.
И нет им замены. Ты, может, видала? Где?
Укрой их, земля. Да взойдет их росток в срок!
Врата величья и силы, народа священный исток!
Мы тайной их смерти величье себе возвратили…
Смотри, о земля, какими мы мотами были!
ДАВИД ФОГЕЛЬ (1891–1944)
***
В сутолоке дневной
Идет сквозь ревущую улицу
Очень пугливая курица
В городе милом и дальнем.
А где-то поближе к вечеру
Пронесутся два ряда каштанов
В направлении тишины:
Их речи залиты ночью.
Мы с тобою тихо ступаем
По луною шитым коврам,
Уже мы успели скинуть
Лохмотья тяжелого дня.
А когда потаенный возница
На ночь замахнется кнутом,
Мы с тобой налакаемся вдоволь
Белизны промелькнувшего детства.
***
Белым квадратом зуба
вонзись в мой палец,
чтобы красной залился кровью.
Черным глазом —
о нежной ночи душа! —
проникни в меня:
веселись там, пляши,
как темнеющий лес
в бледной ночи.
Или как черная птица
в темно-синем пространстве.
И едва затрепещет рассвет —
упаду пред тобой на колени
и пред самим собой —
ты впечатана в жизнь мою.
АВРААМ ШЛИОНСКИЙ (1900–1973)