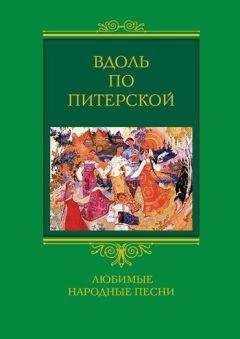Александр Владимирович Соболев - Бухенвальдский набат
1971
* * *
Я к небу руки возношу,
я не страшусь любого груза,
одно лишь, Господи, прошу:
со мной пусть вечно будет муза.
Она и утром, и во сне,
под небом пасмурным
и синим,
нашептывает в душу мне
слова, порой волшебной силы.
И я вдыхаю их и пью,
как вдохновеннейшую влагу,
я
их шепчу,
кричу, пою,
как зерна сею на бумагу.
Я,
как дышу,
стихи пишу.
Мне труд поэта —
не обуза.
Одно лишь, Господи, прошу:
со мной пусть вечно будет муза.
1971
* * *
Нет, я навеки не исчезну,
смерть надо мною не вольна.
Пусть я сорвусь случайно в бездну
иль смоет в океан волна,
пускай уста скует безмолвье
и я паду, глаза смежив...
Кромешный мрак у изголовья...
Я все-таки останусь жив.
Я утверждаю это с верой
не потому, что я велик.
Еще до мезозойской эры
звучал в природе мой язык
в громах небесных и прибоях,
в набегах бури и в тиши.
Земля и небо голубое —
родители моей души.
Она жила в пучине водной,
ступила на земную твердь
всепобеждающей и вольной
не для того, чтоб умереть.
Летели годы, век за веком,
и в озаренье наяву
я появился человеком,
но прежней жизнью я живу,
той, что в немеркнущем сиянье
от сотворенья первых дней,
той, что бушует в мирозданье
без времени, без рубежей.
...И если, не дай Бог, взорвется
родная матушка-Земля,
и в тот печальный час под солнцем
не оборвется жизнь моя:
не человеком и не птицей
в пространстве путь продолжу свой —
летящей крохотной частицей,
неистребимой и живой!
1971
* * *
У нас — серебряная свадьба.
О чем мечталось —
то сбылось.
Сегодня петь бы
да гулять бы —
ведь так от века повелось.
А мы с тобой
не вдарим в бубен,
у нас не будет
пир горой,
и вроде отмечать не будем
наш светлый юбилей с тобой.
Не будет поздравлений разных
и приношений никаких.
Ну, словом, праздник,
но не праздник
какой бывает у других.
Ты даже не поставишь теста,
не наготовишь пирогов.
И все ж ты —
лучшая невеста,
а я — жених из женихов!
1971
БЕЛЫЙ СЛОН
Трубит мой белый слон,
мой альбинос трубит.
Он прогоняет сон,
он никогда не спит.
Все ночи напролет
и в ясном свете дня
зовет,
зовет,
зовет
он счастье для меня.
Четвероногий друг
встревожен и взбешен:
а вдруг,
а вдруг,
а вдруг
я счастьем обделен?!
А вдруг свернет в объезд,
меня не одарит?
И слон не спит, не ест —
трубит,
трубит,
трубит...
Я, правда, небогат,
но не слуга рублю.
И словно ты, мой брат,
трублю,
трублю,
трублю.
Призыв не оборву
я до последних дней:
зову,
зову,
зову
я счастье для людей.
1971
РОДНИК
Селенья были далеки,
а ноги — как пуды...
Ни ручейка и ни реки —
ни капельки воды.
Напрасно я глядел вокруг,
устал. Присел и сник.
Уже отчаялся... И вдруг,
вдруг предо мной — родник!
Как будто среди ада — рай,
цветник — средь голых скал.
Струилась влага через край,
я жадно к ней припал.
Блаженство, радость ощутил...
И возмечтал потом:
вот если б людям стих мой был
подобным родником!
1972
* * *
Ты в дом родной
вернулся в светлый час.
Где ж твой отец?
Где два веселых брата?
Живого мать
тебя лишь дождалась:
в сраженьях павшим
нет домой возврата.
Прошедшее покрыл густой туман...
Но от потери
никуда не деться.
И три рубца —
следы глубоких ран,
следы войны,
на материнском сердце.
1972
ИНВАЛИДУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Инвалид Великой Отечественной,
кровь твоя
на песке,
на траве,
на снегу...
Нет, не только твое Отечество —
вся планета, все человечество
пред тобою в долгу,
в неоплатном долгу.
Кто -то с фронта — счастливый —
вернулся целым.
Кто-то мертвый —
бессмертный —
в землю зарыт...
Ну а ты возвратился
в общем и целом
ничего...
Но ни жив,
ни убит -
инвалид!..
И вручили тебе
билет пенсионный,
хоть почетный,
но тяжкий до боли билет.
В Ноют давние раны
днем и ночью бессонной,
и тебе исцеления нет
сколько лет!..
Я, как ты, покалечен в годину лихую.
Пред тяжелым недугом не дал себе пасть.
Мы с тобой, старина,
до конца повоюем
против кривды,
за народную власти
1972
ЭМИГРАЦИЯ
Граница на замке,
и слово под замком,
и церберы
незримо на пороге.
Ты с этим,
современник мой,
знаком,
идущий по предписанной дороге
порой, чего греха таить, ползком.
Тебе заранее готовит кто-то речь,
шагай в гурте, как тысячи и тыщи.
А если сим посмеешь пренебречь —
отхлещут и кнутом,
и кнутовищем,
да так, что и ни сесть тебе, ни лечь.
Свобода?
Что за чушь?!
Сомненья?
Что за бред?!
Будь счастлив, что набитая утроба.
Инако мыслить?
Тяжкий грех
и вред:
ты только голос свой иметь попробуй
и возле дома твой простынет след.
Достоинство?
Ошибка словаря.
К чему оно — ненужная обуза!
К примеру, босс тебя унизит зря —
надейся на поддержку профсоюза
и верь, товарищ, что взойдет заря...
Желания?
Чего тебе желать?
Ты — человек, и все тебе поблажки:
ты можешь, как сосед, приобретать
в рассрочку барахло и деревяшки
и думать, что богатому под стать.
Хошь — водочки до одуренья пей,
а хошь — футбол покажет телевизор.
Россию-мать обвил зеленый змей,
и травит люд, и тянет книзу,
и делает покорней и немей.
Законность?
Да, написан и закон.
И не сказать, чтоб был он никудышный.
Да вот карает часто правых он.
Недаром говорят:
закон — что дышло,
верти его, крути со всех сторон...
И вертится, и крутится Земля,
и вдаль летит твоя шестая света
в созвездии Московского Кремля.
А я кричу: «Карету мне! Карету!..»
На время эмигрирую в себя.
1972
ИКС
Будил огромный лайнер высоту.
Сто двадцать пассажиров на борту.
Был среди них
чиновник важный Никс.
Он не смотрел в иллюминатор вниз.
В подобном ранге был он там один.
Но туповат был этот господин.
И о добре он понаслышке знал.
В удобном кресле сладко чин дремал.
А прочие — худые, толстяки,
по большей части были добряки,
и каждый жил заботами о том,
чтоб Землю украшать своим трудом.
Вот лайнер завершает свой полет.
Но что-то плохо рассчитал пилот.
Был роковым посадочный пробег,
и... ни один не выжил человек.
Кричала пресса, и гудел эфир,
молниеносно извещен был мир:
«Вчера погиб
чиновник важный Никс!»
А прочие
сто девятнадцать? —
Икс!..
1972
ЕЩЕ ОДИН
В глухой тиши
больницы Хиросимы
измученный,
с поникшей головой,
еще один —
Якио Иосима —
ждал смерти от болезни лучевой.
Он не стонал,
не звал врачей на помощь,
тускнели отрешенные глаза.
Над Хиросимой
проплывала полночь,
слезою капля
по стеклу текла...
Он понимал:
от смерти нет спасенья,
и, как ни странно,
хорошо, что нет...
Смерть по пятам
за ним тащилась тенью,
не отставая,
много черных лет.
Он вспоминал (в сознании покуда)
год сорок пятый, августовский сад...
Огонь и гром!
И за одну минуту
нет Хиросимы —
есть кромешный ад!
Нет светлых улиц,
скверов нет зеленых...
Один разряд,
всего один лишь взрыв!
Но сколько горожан
испепеленных!
А он, Якио,
он остался жив...
И вот он мертв,
его сомкнулись веки.
Ждет погребенья Иосимы прах.
— Войне проклятье!
Миру —
мир навеки! —
застыло криком
на его губах.
1972