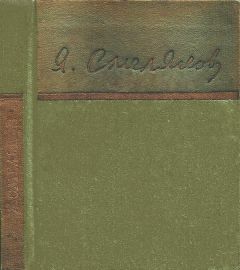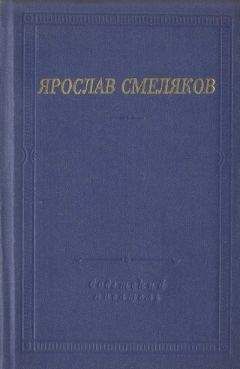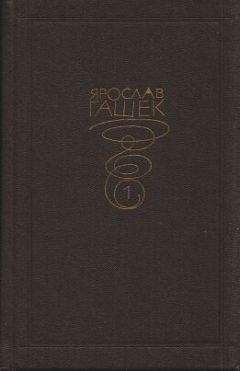Ярослав Смеляков - Работа и любовь
ПРО ТОВАРИЩА
1Как бывало — с полуслова,
с полуголоса поймешь.
Мимо города Тамбова,
мимо города другого
ог товарища Боброва
с поручением идешь.
Мы с тобой друзьями были
восемь месяцев назад,
до рассвета говорили,
улыбались невпопад.
А теперь
гремят колеса,
конь мотает головой.
Мой товарищ с папиросой
возвращается домой.
Мост качается.
И снова
по бревенчатым мостам,
по дорогам,
по ковровым,
отцветающим и снова
зацветающим цветам.
Он идет неколебимо
и смеется сам с собой,
мимо дома,
мимо дыма
над кирпичною трубой.
Над мальчишками летает
настоящий самолет.
Мой товарищ объясняет,
что летает, как летает,
и по–прежнему идет.
Через реки,
через горы.
Пожелавшим говорить
подмигнет,
и с разговором
разрешает прикурить.
И, вдыхая ветер падкий,
через северную рожь
мимо жнейки,
мимо жатки,
мимо женщины идешь.
Посреди шершавой мяты,
посреди полдневных снов,
мимо будки,
мимо хаты,
мимо мокрого халата
и развешанных штанов.
Он идет, шутя беспечно.
Встретится ветеринар.
Для колхозника сердечно
раскрывает портсигар.
Мимо едут на подводах,
сбоку кирпичи везут.
Цилиндрическую воду
к рукомойникам несут.
Дожидаясь у колодца,
судомойка подмигнет.
Мой товарищ спотыкнется,
покраснеет, улыбнется,
не ответит.
И пойдет,
вспоминая про подругу,
через полдень,
через день,
мимо проса,
мимо луга —
по растянутому кругу
черноземных деревень.
Мимо окон окосевших
он упрямо держит путь,
мимо девочки,
присевшей
на минутку отдохнуть.
Мимо разных публикаций,
мимо тына,
мимо тени,
мимо запаха акаций
и обломанной сирени.
Он идет,
высокий, грузный,
и глядит в жилые стекла,
мимо репы и капусты,
сбоку клевера и свеклы,
мимо дуба,
мимо клена.
И шуршат у каблуков
горсти белых
и зеленых,
красных,
черных,
наклоненных,
желтых,
голубых,
каленых,
перевернутых цветов.
Так, включившийся в движенье,
некрасивый и рябой,
ты проходишь с наслажденьем
мир,
во всех его явленьях
понимаемый тобой.
Ты идешь, не зная скуки,
под тобой скрипит трава.
Над тобой худые руки
простирают дерева.
Ты идешь, как победитель,
вдоль овса и ячменя,
мой ровесник и учитель,
забывающий меня.
По тропинке,
по ухабам,
мимо яров,
сбоку ям.
Соловьи поют.
И бабы
подпевают соловьям.
Снова речка,
снова версты,
конь с резиновой губой.
Только небо, только звезды
над тяжелой головой.
Ты идешь
и напеваешь
про сады и про луну.
Ты поешь и вспоминаешь
Аграфену Ильину.
Не она ль в селе Завьялы,
от предчувствия бледна,
тихо ставни открывала
и сидела у окна?
Не она ль, витую косу
распуская для красы,
сторожила у откоса
золотую папиросу
и колючие усы?
Тихое перемещение
звезд от дома до реки.
Груню в легкое смущенье
приводили светляки.
Ей и спится и не спится.
«Неужели ты отвык?
Не просохли половицы,
не стоптался половик.
Неужели позабудешь,
как дышала чесноком?
Нешто голову остудишь
полотняным рушником?
Ты войди ко мне, как раньше,
дергая больным плечом,
громыхая сапогами
и брезентовым плащом.
Для тебя постель стелила,
приготовила кровать.
Вымойся. Скажи, что видел.
Оставайся ночевать.
Где ж ты ходишь, беспокойный?
С кем гуторишь?
Что поешь?
Мимо озера большого
ты по августу идешь.
Как с тобой в одной бригаде
мы ходили, славя труд,
как в Тамбове на параде
отделенные идут.
Ты идешь. И ты не слышишь,
как проходят впереди,
как на ясенях, на крышах
начинаются дожди.
Ты не думаешь, не знаешь,
что, заслышавши тебя,
два врага одновременно
подымают два ружья.
Что один из них степенно
наблюдает свет звезды,
а другой из них считает
увезенные пуды.,
Что другой оглох от страха.
Ты не понял.
На тебя
двое сволочей с размаха
подымают два ружья.
Ты уже не видишь света,
ты уже не слышишь слов.
Два удара.
Два букета
незавязанных цветов.
Два железных поцелуя,
две последние черты.
Упадешь ты, негодуя,
в придорожные цветы.
Упадешь,
костистый, белый,
руку грузную подмяв,
дел последних не доделав,
слов прощальных не сказав.
Дернувшись,
принявши пули,
ты, как буря, упадешь.
Все устали, все уснули,
слушая сухую рожь.
Слышен запах крови сладкий.
Смерть. Заря.
И, наконец,
под одним из них вприсядку
пляшет рыжий жеребец.
6
Дождь стоит у переправы,
затянувшийся, косой.
Утро.
Областные травы
пересыпаны росой.
Утро.
Бьется теплый аист
у поверженной земли.
Над тобою, задыхаясь,
прошумели журавли.
Прыгает железный ворон
и косится на тебя,
да проходит эскадрилья,
нагибаясь и гудя.
Ты лежишь, откинув руку,
посреди цветов,
пока
около тебя не станет
колесо грузовика.
Ты лежишь в гробу дубовом,
перевязан и угрюм.
Не к лицу тебе, товарищ,
сшитый плотником костюм.
Рядом с гробом девка бьется
непокрытой головой.
Опустив глаза, клянемся
выдержать тяжелый бой.
Мы подымемся и выйдем
и проходим темноту.
Опустив глаза, мы видим
нашу честную мечту.
От совхоза и завода,
под звездою и дождем.
Стань, земля.
Под непогодой
мы по осени идем.
СТАРИК
Я себе представляю
таким старика:
осторожно
он идет по дороге
и кашляет.
Вишня стоит.
Жаркий месяц июль.
Дует ветер.
Какой?
Подорожный.
Над холодным болотом
болотная птица летит.
Белоруссия.
Снова встают
неподвижные травы.
Постаревшая девочка
рвет голубые цветы.
Я тебя вспоминаю
на камне
Бутырской заставы.
На площадке трамвая
опять вспоминаешься ты.
Надо слушать рассказы.
Смежайте
тяжелые реки.
Снег лежит за окном.
Переулком прошел грузовик.
Зимний месяц февраль.
Пол восьмого.
В деревне Даргейки
тихо жил одинокий,
суровый, как туча,
старик.
Он горчицей себе
натирает
согбенную спину.
И — согласно условию —
(я говорю напрямик)
пред вами, гремя,
возникает
такая картина:
по дороге идет
некрасивый и дряхлый
старик.
Справа ставлю забор
из жердей.
И сажаю капусту.
Расставляю деревья.
По сажалке
листик плывет.
К черной
малой избе,
к топчану,
одинокий и грустный,
на истертых подошвах
старик
по июлю идет.
Что ему неизвестно?
Неужто простое движенье
надоевшей природы?
Недород,
опостылевший кров,
идиотская скука,
вражда?
Наконец уваженье
сыновей, занятых
на постройке
больших городов?
Потому он глядит
вечерами
на темное небо.
Потому не желает
ходить по мирской суете.
Только доски на гроб —
ничего
ему больше не треба.
Только руки скрестить
на холодном пустом животе.
А душа пролетит
через теплые
старые тучи.
И, нагую, ее
серафимы ведут,
как тоску.
Бог дает папиросу «Желанье».
Мигает —
и тут же
два красивых крыла.
И рубаху несут старику.
И порхает старик
посреди всем известного
сада.
Овощь вкусную ест.
Управляет немалой звездой.
Он летит над землей.
И не смотрит на землю.
Не надо.
Все известно.
Деревня
Даргейки стоит за горой.
Там детей пеленают,
как баба его пеленала.
Топят деревом печи.
Толкуют о старых делах.
То ему ни к чему.
Он с богами
на равных началах.
С ними в карты
играет.
И спит на больших
облаках.
И от мыслей таких
в старике зародились
сомненья.
Тяготится землей.
И не хочет
ходить по земле.
Говорит о крестах,
о последнем своем
омовеньи,
о рубахе,
в которой лежать на столе.
Он ехидно смеется
над жалким житьем
хлеборобов.
Не скрывая презренья,
на воду и печи
глядит.
Глухо думу имеет.
Потиху готовит для гроба
дорогие дубовые доски.
А время гремит.
В два часа пополуночи
Сталин идет к телефону.
Созывает помощников,
будит друзей боевых.
Отдает приказания,
объясняет.
Послушные звону,
командиры идут,
позабыв о болезнях своих.
Сталии им говорит.
Выступают они
по докладу.
Вынимают бумаги,
ученуе книги берут.
Сталин слушает их.
Через день
из ворот Сталинграда
трактора в Белоруссию,
чуть громыхая, идут.
Через день, на другой,
получив
в орготделе
заданье
и его выполняя
без лишних
торжественных слов,
скорым поездом,
громко сказав:
«До свиданья»,
отъезжает
начальник
политотдела Смирнов.
И товарищ Смирнов
начинает все дело
сначала.
Проверяют наличность.
Заданья бригадам дают.
Кулаков посылают
на север
достраивать наши каналы
и в конце заседания
грозную песню
поют.
Из просторных сараев
выводят
кулацкие жнейки.
Люди трогают
крылья.
Скрывая волненье,
глядят.
Принимай свое счастье,
худая
деревня Даргейки, —
бобыли
и старухи,
пастух
и безногий солдат.
По холодным ночам,
от прекраснейших снов
просыпаясь,
оправляя штаны,
все бегут,
забывая про дрожь,
посмотреть,
как стоят
посредине июля,
качаясь,
молодые овсы
и еще
не созревшая рожь.
Вечерами
от пасеки
тянет дымом,
полынным и горьким.
Доят мрачных коров,
продолжающих ровно жевать.
И тогда начинается
лучшее время
уборки,
о которой сейчас
ничего невозможно
сказать.
Я веду вас
к столу,
терпеливый, усталый
читатель.
Это праздник,
таких
не видали
седые века.
Ходит ветер хмельной.
Замолкает оркестр,
и, кстати,
двое парней
под руки
подводят к столу
старика.
И ему предлагают
почти что
червонного хлеба,
намекают на бога,
с почтеньем
толкают в бока.
Но старик
с отвращением
смотрит
на малое небо,
и на празднике
пьют
за крутой поворот
старика.
Он соседям
сказал,
что такого
богатого жита
и такого порядка,
по мненью его,
не сыскать.
Он сидит,
улыбаясь,
в рубахе,
которая сшита
для того,
221
чтоб перед богом
красивым и чистым
предстать.
Звезды небом проходят.
А полночь
приносит хворобу.
Остывают сады.
Над районами
время гудит.
Он несет
Поликарповой
доски
от бывшего гроба,
получает расписку,
вздыхает
и так говорит…
Впрочем,
я не ручаюсь
за точность
моей передачи,
и поэтому все,
что старик говорил,
опущу.
Я хожу по Москве,
сочиняю себе незадачи,
слишком часто
влюбляюсь,
без всякой причины
грущу.
Но сейчас отворяются
страшно тяжелые
двери.
И в такую минуту
я вижу сияющий мир.
Мы идем по садам
всех республик.
Смеемся
и верим
в наше честное дело.
Да здравствует
наш бригадир!
ПРОХОДНАЯ