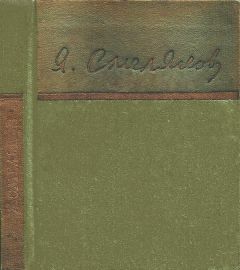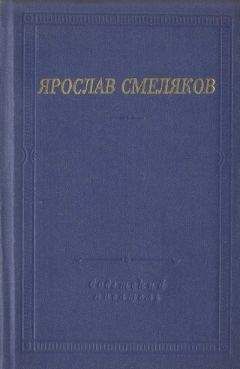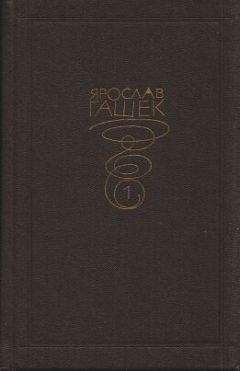Ярослав Смеляков - Работа и любовь
ВОР
Бывают такие бессонные ночи:
лежишь на кровати — скрипит кровать,
и ветер, конечно, не много, не очень,
но все же пытается помешать.
И дождик невзрачный, унылый и кроткий
падает на перезревшие ветки,
и за фанерною перегородкой
вздыхает беременная соседка.
В такую–то полночь (верьте не верьте),
потупив явно стыдливый взор
и отстранив назойливый ветер,
в форточку лезет застенчивый вор.
Мне неудобно, мне даже стыдно.
Что он возьмет — черновики?
Где ж это, братцы читатели, видно,
чтоб похитители крали стихи?
Ему же надо большие узлы,
шубы, костюмы, салфетки и шторы.
Нет у меня ничего и, увы,
будет, наверно, не скоро.
Думаю я: ну ладно, что ж,
трудно бедняге — привычка.
В правой руке — настоящий нож,
в левой руке — отмычка.
Лезет в окно, а оно гремит
джаз–бандом на вечеринке.
Фонарь зажигает — фонарь не горит
(наверно, купил на рынке).
На стул натолкнулся, цррвал штаны.
Конечно, ему незнакомо…
Зажег я свет и сказал: — Гражданин,
садитесь, будьте как дома.
Уж вы извините, что я не одет,
вы ведь не предупредили,
вы ж за последние двадцать лет
даже не заходили.
Быть может, не нравится вам. разговор,
но я не о вашей вине ведь.
Оно конечно, вы опытный вор,
вам это дело виднее.
Но вам неудобно на улицу — дождь,
еще, чего доброго, схватите грипп.
И вор соглашается: — Нет, отчего ж,
давайте поговорим.
Потом я мочалил над примусом спички
(«Не разжигается, стерва!»),
а вор в это время своею отмычкой
пытался открыть консервы.
И только когда колбаса подгорела
и чайник устал нагибаться,
я бухнул: — Мне кажется, устарела
ваша квалификация.
Мне кажется (в этом уверен я),
что за столом не мы,
не просто два человека сидят,
а старый и новый мир.
Один этот — новый и нужный нам,
растущий из года в год.
Один этот — наш — выдвигает план
и выполняет его.
Один этот — я даже захлебнулся
и ложечкой помахал, —
один этот бьется горячим пульсом
в каждой строке стиха.
В одном этом мы вырастаем и любим,
в одном этом парни отвагой горят.
Один этот в «с называет «люмпен»
и добавляет «пролетариат».
И вы, представитель другого мира,
попавший к строителям невзначай,
сидите в чужой коммунальной квартире
и пьете взращенный ударником чай,
едите из этих веселых тарелок,
готовых над вами смеяться.
Она действительно устарела,
ваша квалификация.
Вы мимо труда, пятилетки мимо
ходите мокрою ночью,
и это когда нам необходимы
профессор и чернорабочий.
Ах, в чью стенгазету,
зачем и кому
вам написать, неодетому:
«Товарищ завком, оглянись, ау!»,
«Охрана труда, где ты?»
И знаете что? Я придумал исход:
идите, пожалуй, хоть к нам на завод.
У вас накопилась какая–то ловкость,
научитесь быстро. И скоро
вы будете в новой просторной спецовке
стоять над гудящим мотором.
Вам в руки дадут профсоюзный билет,
вам премией будет рубашка,
и мы напечатаем ваш портрет
в нашей многотиражке.
Вы нам поможете, мы проведем
пятилетку в четыре года.
Вы в комнату эту войдете и днем
и даже с парадного входа.
Рассвет начинается. Лампа горит.
По небу плывут облака.
А вор улыбается и говорит:
— Спасибо, товарищ. Пока.
СМЕРТЬ БРИГАДИРА
Вчера работал бригадир,
склонившись над станком.
Сегодня он лежит в гробу,
обитом кумачом.
А зубы сжаты. И глаза
закрыты навсегда.
И не раскроет их никто.
Нигде. И никогда.
И тяжело тебе лежать
в последней из квартир,
и нелегко тебе молчать,
товарищ бригадир.
Твой цех в молчанье понесет
тебя по мостовой.
В зеленый день в последний раз
пойдем мы за тобой.
Но это завтра. А пока,
молчанью вопреки,
от гула, сжатого в винтах,
качаются станки.
За типографии окном
шумит вечерний мир,
гудит и ходит без тебя,
товарищ бригадир.
Врывайся с маху в эту жизнь,
до полночи броди]
А ты не слышишь. Ты лежишь,
товарищ бригадир.
Недаром заходил в завком
сегодня плановик.
И станет за твоим станком
упрямый ученик.
Он перекрутит все винты,
все гайки развернет.
Но я ручаюсь, что станок
по–прежнему пойдет.
Ты жизнь свою не потерял,
гуляя и трубя.
Страна, машина и реал
запомнили тебя.
И ты недаром сорок лет
в цехах страны провел,
и ты недаром научил
работать комсомол.
Двенадцать парней. Молодежь.
Победа впереди.
Нет, ты не умер. Ты живешь,
товарищ бригадир.
Твоя работа и любовь
остались позади.
Но мы их дальше понесем,
товарищ бригадир.
Мы именем твоим свою
бригаду назовем.
Мы радостным путем побед
по всей земле пройдем.
Когда же подойдут года,
мы встретим смерть свою
под красным знаменем труда
в цехах или в бою.
Но смотрят гордо города,
но вечер тих и рус.
И разве это смерть, когда
работает Союз?
Который — бой,
который — гром
за настоящий мир.
В котором мы с тобой живем,
товарищ бригадир.
ЛЮБОВЬ
Последние звезды бродят
над опустевшим сквером.
Веселые пешеходы
стучатся в чужие двери.
А в цехе над пятилеткой
склонилась ночная смена —
к нам в окна влетает запах
отряхивающейся сирени.
А в Бауманском районе
под ржавым железом крыши,
за смутным окном, закрытым
на восемь крючков и задвижек,
за плотной и пыльной шторой
нд монументальной кровати
любимая спит. И губы
беспомощно шевелятся.
А рядом храпит мужчина,
наполненный сытой кровью.
Из губ его вылетает
хрустящий дымок здоровья.
Он здесь полновластный хозяин.
Он знает дела и деньги.
Это его кушетка
присела на четвереньки.
Он сам вечерами любит
смотреть на стенные портреты,
и зеркало это привыкло
к хозяйскому туалету.
Из этого в пианино
натянутого пространства
он сам иногда извлекает
воинственные романсы.
И женщину эту, что рядом
лежит, полыхая зноем,
он спас от голодной смерти
и сделал своею женою.
Он спеленал ее ноги
юбками и чулками.
Она не умеет двигать
шелковыми руками.
Она до его прихода
читает, скучает, плачет.
Он водит ее в рестораны
и на футбольные матчи.
А женщина спит, и губы
подрагивают бестолково,
из шороха и движенья
едва прорастает слово,
которым меня крестили
в патриархальную осень,
которое я таскаю
уже девятнадцать весен.
Я слышу. Моя бригада
склонилась над пятилеткой,
и между станками бродит
волнующий луч рассвета.
Я слышу. И хоть мне грустно,
но мне неповадно ныть.
Любимая! Я не смею
такую тебя любить.
Я знаю, что молодая,
не обгоняя меня,
страна моя вырастает,
делами своими звеня.
Я слышу, не отставая
от темпа и от весны,
растет, поднимается, бьется
наличный состав страны.
И я прикрываю глаза — и
за полосой зари
я вижу, как новый город
зеленым огнем горит.
Я вижу — сквозь две пятилетки,
сквозь голубоватый дым —
на беговой дорожке
мы рядом с тобой стоим.
Лежит у меня в ладони
твоя золотая рука,
отвыкшая от перчаток,
привыкшая к турникам.
И, перегоняя ветер
и потушив дрожь,
ты в праздничной эстафете
победную ленточку рвешь.
Я вижу еще, как в брызгах,
сверкающих на руке,
мы, ветру бросая вызов,
проносимся по реке.
И сердце толкается грубо,
и, сжав подругу мою,
ее невозможные губы
под звездами узнаю…
И сердце толкается грубо.
На монументальной кровати
любимая спит. И губы
доверчиво шевелятся.
А в цехе над пятилеткой
склонилась ночная смена,
нам ноздри щекочет запах
отряхивающейся сирени.
И чтобы скорее стало
то, что почти что рядом, —
над пятилеткой стала
моя молодая бригада.
И чтобы любовь не отстала
от роста Страны Советов,
я стал над свинцом реала,
я делаю стенгазету,
я делаюсь бригадиром
и утром, сломав колено,
стреляю в районном тире
в районного Чемберлена.
Я набираю и слышу
в качанье истертых станков,
как с каждой минутой ближе
твоя и моя любовь.
ПРО ТОВАРИЩА