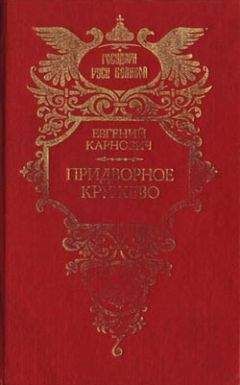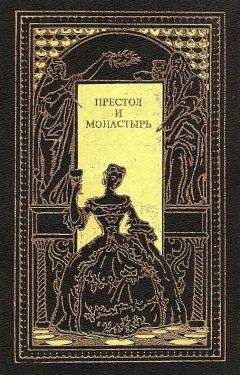Теодор Крамер - Зеленый дом
О великой гибели сосновых лесов возле Витшау
Ранним утром объявились в хвойных чащах
ненасытные чужие мотыльки.
Туча полчищ, беспокойно шебуршащих,
черным снегом облепила сосняки.
Крыльца черные топорща, словно рясу,
грызли ветви до подкорья, вполсыта,
от въедающихся жвал не стало спасу,
и на хвою наползала краснота.
Даже ветер перед ними был бессилен,
цепи гусениц свивались в пояса,
дятлы яростно стучали, ухал филин —
умирали обреченные леса.
В дымке осени от комлей и до сучьев
разносился гул, протяжный и глухой,
дерева, сухие ветви скорбно скрючив,
ждали только, чтоб рассыпаться трухой.
Чернорясники в оцепененье сонном
прекращали класть яички под кору,
отползали по чешуйкам к лысым кронам,
замирали, коченея на ветру.
И, наполня воздух запахом погостным,
подыхали без жратвы, всю осень тек
на смерзающийся грунт по голым соснам
черной патокой гнилой и липкий сок.
Горбун
Жил калека в мансарде с косым потолком;
сыро, холодно — все не беда.
Пансиона хватало на хлеб с табаком,
так что он не ходил никуда.
Но двоих шантажистов попрешь ли взашей,
если силы иссякли давно?
Вот и тратился он из последних грошей
на грудинку, на сыр, на вино.
Понемногу пришлось распродать гардероб,
оловянную утварь со стен;
и в затылке калека с отчаяньем скреб,
ожидая дурных перемен.
Он рубаху жевал и пытался уснуть,
только было совсем не до сна,
если парни дрались, утихали чуть-чуть
и шпыняли, смеясь, горбуна.
А однажды устроили гости погром,
увидав, что все меньше доход:
обмотали калеку гардинным шнуром
и до дна обшмонали комод.
Уложив небольшой узелок барахла,
порешили: мол, дело с концом.
Весь табак горбуна докурили дотла
над его посиневшим лицом.
О Хворании в меблирашках
Хворать в меблирашках — неважная роль:
соседские новости слушать изволь,
детишки вопят и хрипят старики,
когда — духота, а когда — сквозняки.
Под вечер придет сострадающий люд,
таблеток, микстур, порошков нанесут,
и каждый подаст драгоценный совет
о том, как лечился двоюродный дед.
Но есть неприятностям противовес:
и чай приготовят, и сменят компресс,
забота, участие с разных сторон —
и полный порядок насчет похорон.
Из доходного дома — прямая тропа
Из доходного дома — прямая тропа
на окраину: там не видать ни клопа,
потолки не затянуты плесенью сплошь,
но в квартирках при этом уюта на грош,
и никак не согреться под вечер.
И на службу из дома — к чертям на рога,
так что тратится время, а с ним и деньга,
и за день до получки твоей ни один
из соседей не станет ссужать маргарин,
и никак не согреться под вечер.
И поблизости нет уж совсем ни одной
задушевной, торгующей джином пивной;
всех счастливей же — те, кто всегда во хмелю,
те, кто вовсе бездомен, и — кум королю!
И никак не согреться под вечер.
Рыба с картошкой
Горстка рыбы с картошкою, полный кулек
на три пенса, — а чем не обед?
Больше тратить никак на еду я не мог,
уж таков был семейный бюджет.
Я хрумкал со вкусом, с охоткой,
и крошки старался поймать,
покуда за перегородкой
так тягостно кашляла мать.
Горстку рыбы с картошкою, полный кулек,
принесла ты в кармане своем,
помню, тяжкий туман в переулках пролег,
было некуда деться вдвоем.
И, помню, в каком-то подъезде
мы были с тобою в тот раз —
дрожали рисунки созвездий
и слезы катились из глаз.
Горстка рыбы с картошкой в родимом краю —
все, кто дорог мне, кто незнаком,
съешьте рыбы с картошкою в память мою
и, пожалуй, закрасьте пивком.
Мне, жившему той же кормежкой,
бояться ли судного дня?
У Господа рыбы с картошкой
найдется кулек для меня.
Шорох
В ночи, задолго до прихода дня,
какой-то шорох испугал меня.
Ложись, укройся: это все не в счет,
роняет сажу старый дымоход.
Не может быть, чтоб только сажа, нет!
Я слышу этот шорох много лет.
Ложись, поспи, пока придет восход,
а шорох… Древоточец ест комод.
Нет, он бы так не запугал меня!
Смелеет шорох, душу леденя.
Ну что ж, лежи и слушай, как шуршит
твой вечный страх: он спать не разрешит.
Светлеет небо вдалеке
Светлеет небо вдалеке.
Рука сользит к другой руке,
к чужой — однако пуст матрас
и слезы катятся из глаз.
Ушли, погасли в тишине
слова, звучавшие во сне.
От них бы светлой стала ночь,
они могли б спасти, помочь.
Но все исчезло налету —
и человек лежит в поту,
пытаясь тщетно сохранить
в потемках рвущуюся нить, —
соединить ее, вернуть!
Но эту нить, но этот путь
найти неспящим не дано.
Озноб. Рассвет глядит в окно.
Пустошь
В дни, когда высыхает растаявший снег,
и друг другу леса шелестят по-старинке —
выделяется пустошь средь пашен и нив,
где лишь овцы порою пройдут, наследив
на траве худосочной, на чахлом суглинке.
Плуг на пашне ворочает комья земли,
на холмах издалека видна суматоха, —
но и пустошь еще не иссохла вконец,
зной палит — и на ней расцветает багрец
оперенного звездами чертополоха.
По ночам здесь царит величавый осот,
и толкаясь, топочет по глине отара,
утром — посох пастуший гоняет гадюк,
полдень сух и горяч, — лишь под вечер вокруг
нераспаханный грунт остывает от жара.
Только осенью пустошь привольно цветет:
бук теряет листву, и взлетает в просторы
клекот грифов, кузнечиков мерный напев,
и на горной тропе дождевик, перезрев,
рассыпает горячие черные споры.
Трава в огне
Если даже отара в полуденный зной
ни травинки не сыщет на пастбище горном —
то покрыта земля вдоль опушки лесной
пожелтевшим, уже засыхающим дерном.
Но внезапно и жутко чернеет земля,
загораются травы, и неумолимо
летней ночью из чащи в сухие поля
простираются щупальца жгучего дыма.
И скотина в наполненном смрадом хлеву
видит травы… кустарники… чистые степи…
незабвенную даль, но — уже наяву —
чует запах пожара и дергает цепи.
Октябрьский полдень
В кустах и на деревьях пестрота,
обнажены далекие поля:
черна и, словно противень, пуста
еще вчера зеленая земля.
Созрело все, и убран каждый злак,
простор широк и чист, как никогда, —
медовый воздух до конца размяк,
как сердцевина спелого плода.
Последний день, когда царит покой,
когда ни холода, ни зноя нет,
и высоко изогнут над землей
окаменевший густо-синий цвет.
Озеро Нойзидлерзее
Поздно ночью, с кочкарника, с плавней сырых
душный ветер внезапно подул.
Переполнилась пеной пустынная тьма,
и лизала песок водяная кайма,
донося нарастающий гул.
Отступала куда-то озерная зыбь,
чуть поблескивая, как слюда,
и до самой венгерской границы пески
обнажались, намытые руслом реки,
и спадала, спадала вода.
Чешуей забурлил, ощетинился ил
исчезающей влаге вослед,
и над озером чаичий вихорь повис,
то взлетая, то хлопьями падая вниз,
застилая пришедший рассвет.
Птицы жадною тучей слетелись сюда,
чтоб сожрать хоть кусок про запас,
и ушли, одурев, огрузнев от возни,
всю озерную ширь исклевали они,
и не место здесь людям сейчас.
И свинцом отражается в небе вода,
и земля прибирается тьмой.
Виноград, что ни день, все зрелей и зрелей,
но не время об этом: с озерных полей
снова тянет гнильем и чумой.
У последнего квартала