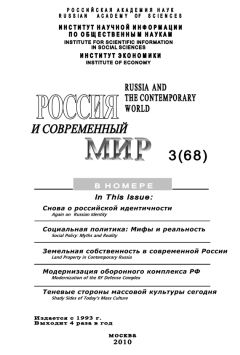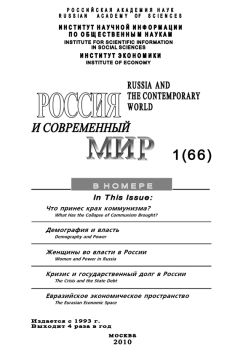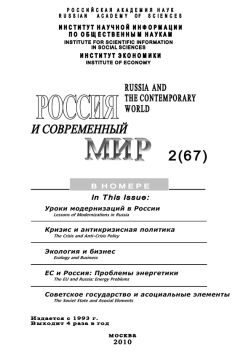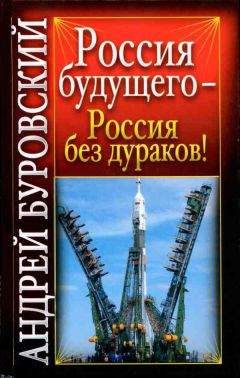Владислав Резвый - Победное отчаянье. Собрание сочинений
6
Советская администрация железной дороги взяла на себя устройство похорон.
Было тихое, необычно ясное, располагающее к бодрости утро. Из города прибыл духовой оркестр из пятнадцати человек сквернословящих музыкантов. Они были отмольцы, и Шадрин вызвался быть их гидом к купальне. Он выспался и чувствовал себя свежо. Не жалея белых, надетых ради случая брюк, он быстро шагал с ними по глухой, заросшей тропинке сквозь траву, и манжеты брюк немного позеленели. Музыканты раздевались, открывая солнечным косым лучам проникотиненные и проалкоголенные тела. Шадрин не купался – не хотелось раздеваться, да и время не терпело, – и рассматривал их с безотчетной брезгливостью. Ему было не совсем приятно, что они – отмольцы: все станционные отмольцы прежде всего были здоровы и красивы телом.
Грубо хохоча и шурша сопротивляющейся водой, музыканты испытывали истинное удовольствие, и с ними – Шадрин. Он громко и холодно засмеялся, когда на музыкантов, выходящих из воды, стали набрасываться зеленые жужжащие грозно овода, прилепляясь плотно к их покрытым капельками воды телам. Музыканты с испуганностью горожан сбивали оводов у себя и у других, обращая к насекомым самые разнообразные ругательства.
Шадрин, называвший музыкантов «ребята», спросил их, хотят ли они «кушать сейчас или уже после похорон – с большим аппетитом, не торопясь и не давясь. Они согласились, немного помявшись, на второе.
Вся станция уже толпилась у амбулатории: разговаривали, улыбались, но прилично, негромко. Общественное мнение в таких случаях предписывает соблюдать строгую грусть.
Музыканты вскинули вверх отливавшие золотом инструменты, и раздался похоронный марш. Тут лица у всех по-настоящему потемнели, потому что ничто не предостерегает «помни о смерти» так хорошо, как это делает обыкновенный – даже не шопеновский – похоронный марш. Перед ним бессильны и человеческие слова, и могильные памятники, и кровавые сцены.
Над маленьким станционным кладбищем с тесно расположенными, не оправленными в камень, запущенными могилами помахивали тихонько макушками неизменные вязы и тополя. Зелень вершинных листьев отливала золотом, а внизу было тенисто, сыровато. Земля никогда по-настоящему не просыхала, и странным запахом – «земля, и в землю отыдеши» – веяло от деревянных истлевающих крестов да от бордовых кольев над могилами покойников, похороненных по-граждански.
Серьезная, темная, несмотря на яркий день, процессия приблизилась к свежей яме, вырытой на двоих.
Варю несли впереди. Она почти не изменилась: ранение было навылет и не раздробило кости. Виски обмыли и прикрыли волосами. Несколько отмольцев робко, боязливо несли ее красный гроб, но одета она была, по странности, как невеста, в фату. Белый гроб Лукошкина несли его сослуживцы, с ужасом иногда посматривая на его исковерканное лицо. На нем был белый, сшитый недавно из последних денег парусиновый костюм.
По Лукошкине никто не плакал вслух – у него здесь не было родственников, – но мать Вари громко, иссушающе рыдала, наводя на людей страх и тоску. Ваня и Митя заволакивали землю грубыми новыми башмаками, ежеминутно спотыкаясь, хотя ни один из них не отводил глаз от земли. Их подбородки упирались в грудь – они теперь, действительно, казались худыми и малокровными, – но ни слезинки не вырвалось ни у того, ни у другого. Только когда один раз плач матери сорвался и замер на очень высокой ноте, у Вани покривилось лицо, а младший, Митя, не то икнул, не то фыркнул, из последних сил сдавливая то, что намеревалось самовольно выпрыгнуть у него из груди. Старший на него покосился и еще крепче прижал к груди подбородок, несколько минут не отрывая глаз от своих пропыленных ботинок.
Один отмолец, лет двадцати четырех, сказал надгробное слово о Варе. Он покраснел от напряжения и говорил мыча, заикаясь и коснея. Говорил еще кое-кто постарше и, наконец, говорил Шадрин. Он назвал Варю энергичной девочкой и особо выделил то, что она перед своим страшным неразумным решением сдала всю отчетность по кассе желсоба, чтобы никому не доставлять хлопот на этой земле. Сочувственно он описал и
Лукошкина, обходя политическое положение последнего. Он не хитрил, Шадрин, – он говорил не о Лукошкине, а о молодости вообще, – стало быть, правдиво. Только конец он смял, как и все, кто говорил, сорвавшись в казенщину:
– Да, они порвали с жизнью, которая есть борьба, борьба во что бы то ни стало, но мы, мы не последуем их примеру… Это не выход!
Впрочем, ему это, может быть, не было казенщиной.
Многие взглядывали на него с ненавистью. «Сам, мерзавец, до чего довел, а теперь разглагольствует», – шептали пожилые женщины и упоминали что-то о старухе-матери Шадрина.
Был для них еще один неприятный момент, когда у Вариного изголовья ставили красный кол. Старушек до озноба покоробило это обстоятельство. Доктор, недавно презрительно пролиставший «12» Блока, которого он считал советским поэтом, посмотрел на массивный красный брус и сощурился: «Эх, эх, без креста!..»
Зато над Лукошкиным поставили крест, и вскоре общая могила сровнялась с землей. Мать не переставала рыдать.
Время клонилось к обеду. Воробье нерешительно начали чирикать на деревьях, музыканты с опущенными инструментами вели себя беспокойно, перешептывались, и стоящие поблизости улавливали слово: «жрать, жрать», повторяемое на разные лады. Под влиянием свежего воздуха и прогулки по кладбищу всем хотелось того же, но вслух об этом говорили только музыканты, которым всё было на этой станции чуждо и безразлично.
Наконец стали расходиться. Доктор тихо шел за группой старушек, саркастически-печально наблюдал за ними и шептал: «совсем деревня, совсем как Россия», а старушки, действительно деревенского обличья, возмущались, отчего их собранные в складки лица делались злыми… Они негодовали, что кол и крест воткнуты в одну и ту же могилу – кол и крест …
7
Сверстники Лукошкина ничем не выделяли его, пока он жил, но теперь воспоминания о нем вызывали полувосторженное удивление: в самом деле, «убил любимого человека. потом себя!..» Каждый невольно подставлял себя на его место и чувствовал, что Лукошкин сделал пока непосильную для них вещь. Грек, которого Лукошкин тогда ни с того ни с сего толкнул, обмолвился, что самоубийство было решено за день, за два.
Некоторые ожесточенно возражали:
– Ты не знаешь . Помнишь, Лукошкин накупил раз много -сотни три – папирос и угощал китайцев на заводе. Это было два месяца тому назад. Он давно ходил странный.
Янек, полячок, только начинающий мужать, но начитанный более остальных, сказал, что перед смертью, вероятно, Лукошкину в несколько секунд вспомнилась вся его жизнь.
Это тоже приняли близко к сердцу:
– Какого там черта будет человек вспоминать свою жизнь, когда ему надо застрелить любимого человека!
Грек внезапно поднял вопрос, имел ли Лукошкин Варю перед смертью, но кто-то слышал, что Варя оставила своей
матери записку, где писала: «Мама, между мной и Васей никакой грязи не было».
– Нет, нет! – отвергли все.
Спор зашел о силе воли – обладал ли ею Лукошкин. Одни говорили: «да, больше, чем всякий из нас»; а другие утверждали, что он не смог больше бороться, что жить гораздо трудней, чем умереть, и поэтому Лукошкин безволен. Но опять схватились за то, что нелегко убить любимого человека.
Они сидели на скамеечке в парке и говорили громко. Шадрин с полотенцем, перекинутым через плечо, возвращался с купанья. Его скрывали от них кусты, и он слышал конец их разговора. Опять на него напала задумчивость. Суровое недоумение вновь – время от времени – меняло его малоподвижное лицо.
– Все-таки непохоже на этого мальчишку! – опять и опять сомневался он.
И Шадрин был прав в своих сомнениях…
.. .Когда Варя и Вася, обнявшись, сели у тополя, они оба думали с отчетливостью, что в последний раз смотрят друг на друга. Но Варя не смотрела на Лукошкина. Словно чего-то страшась, она сидела повернутая к нему в профиль и только боковым зрением улавливала неясные, но такие знакомые очертания его загорелого и непобритого сегодня лица, с волосами, покрывавшими лоб.
Лукошкин тоже не прямо, а искоса – точно не смотрел на нее, а шпионил за ней – видел ее засмуглевший локоть с круглой темной на нем ямкой, кожу, от которой шло тепло, вылощенную солнцем на шее и на слегка впавших за последние дни щеках.
Варя полузакрыла глаза… Она подумала о том, что она сделает через минуту, и стиснула зубы. Только минута, только счет до шестидесяти. Но секунды, казалось, расширились, потому что веские, медленные мысли умещались в них. Там был и холод существования на поверхности этой земли, и безразличная, тупая, но всё же явная ненависть к человеческим существам – ко всем, ко всем, без исключения!.. Но нет, – Варя сильнее покосилась на опустившийся профиль Васи, и что-то иное, чем ненависть, правда, исходившее от него, захлестнуло ее. Это была волна, это было как бы облако, окружавшее их и старый тополь, под которым они сидели.