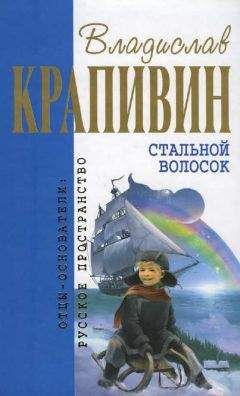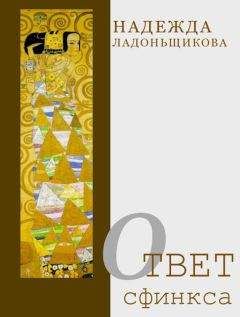Владислав Дорофеев - Вечерник
Эпиграммы
* * *Пьяные музы орловских равнин
ночью настигли и в спину вошли.
1982
На радость близким и друзьям
мне снится юркий таракан.
1981
Гусеницей проползла зима.
1981
Все это также скучно мне,
как если бы скучал не я.
1981
Любовница, безумье, странный камень.
Любовница, безумье, камень.
1981
Мы любим тех, кого не любим никогда.
1981
Я потерял чужую кровь, зачем мне остальное.
1981
Медленно крутит пропеллер,
и в парке белом тишина,
и вижу я, как русский мерин
идет с душою, выпитой до дна.
1982
Ворона-крошка,
подай немножко,
вот видишь крошку,
ну, кинь мне брошку.
1981
Спокойный воздух сегодня утро.
1981
Я наливаю Хлебникову водки,
он говорит, что запивать не надо,
что с толстой бородой теплее глотке,
московский зоопарк похуже ада.
Лорд Байрон возбуждает аппетит,
от Пушкина порой зевать охота,
в осеннем Мингалеве мне претит
в устах и глазках фюрерская нота.
1982
бездарна и слепа
двулична и блудлива
сердечная тоска
не женщина – суглинок
неотвратимо зла
отчетливо глумлива
ответственно подла
и пошло горделива
бесстыдно холодна
безнравственно ленива
бездушна и пуста
банальна и брезглива
бессмысленно глупа
и бесконечно лжива
старушечьи стройна
гадюшечьи красива
газетная змея
тягучая, как тина
порочная лиса
конечна, как могила
2006
А.
Она умирает долго,
противно и безнадежно,
хотя еще дышит ровно,
отчетливо и надежно,
в плаще и домашних туфлях —
она в инвалидном кресле,
забытая всеми рухлядь,
храпит свою злую песню,
не видеть дурехе мая,
сидит она вдрызг пустая,
и слюни текут по краю,
смывая дорогу к раю,
ей явятся злые дети,
закружатся, замилуют,
на том ожидают свете,
по падшей душе ликуют,
она во дворце вельможи,
когда-то скакала птичкой,
теперь же с тупою рожей,
ее запрягают в бричку,
нам вовсе ее не жалко,
жила она здесь брутально,
как бестолковая галка
кончается жизнь буквально.
2006
Поэза
Трупный вопрос,
легкий прыжок,
тонкий снежок,
русский сучок.
Чок… чок… чок…
Шипит в леса оса.
Чок… чок… чок…
Летит в местах роса.
Чок… чок… чок
Растет юркая краса.
Тук… тук… тук…
Топчет оконце рука,
(рука труит упрямо здесь),
мучит упрямо билет.
Голит лаково крик,
метит ласково.
Липкие толпы!
Остановите!
Высовываются рожи,
плещут губы,
лунки храмов распахнуты,
круги городов любят по-новому.
Венец тел жмет к рыжей почве,
великое наречие теней тянет руку
за образа – рвутся билетики,
скрипят половицы лица,
толкутся мужи на площади:
– В радость.
1979, 2005
Вгляжусь за зеркало,
кость изо рта вынимаю,
щекочущее пламя мышиной мочой
гасит воспоминания,
и на последний крик,
умерший на груди,
дроздом
на колесо взошедший,
приколотые ноги,
губы рваные приволоку,
и разбросав язык,
засовывая зубы на крюки плечей,
заговорю:
– Ах, вы мать нашу – татарва…
И ночь рисует хоры тишины.
А сон опченясь,
лязгая,
на грудь наступит.
Кипучая красавица равнина
задранной юбкой щеголяет.
Танец в мех завернули,
круг в мех обернули.
На ночь нет круга.
Ресницей вода стекает.
Остроносый
рыжий
гордый петух
кучу травы
кровью оближет.
Край тишины
черной скотиной,
равной могиле,
вниз тернием прорастает и мстит могилам.
По крышам и карнизам,
черным от дождя,
ползет берестяной походкой —
лицом он дед, —
а на лицо его красивое,
от струй текущих по лицу,
мы посмотреть не в силах.
Старый человек выбивает скань.
Зубилом,
легким от дождя,
и телом,
черным червяком,
кипит на листьях осень.
Карандашная девочка в переднике от куклы,
в прощеном обнажении рук,
в молитвенной венозности глаз —
на параллелограмм прохожего
и речные порталы улиц,
на шарнирные заводы,
на фонтаны магазинов —
таращится звуками Моцарта.
Плещет воздух,
красуются речи работы,
забытие
рыжими ладонями
на ладан ложится,
солнце,
как резус,
копошится сливой гниющей.
Я наступаю на шаль звонов города.
Фонарь,
как вошь,
скачет по тротуарам,
уходящим во чрево земли;
город веки смеживает,
ослеплен шубою огня,
торчащим из квартир телом,
накрыт и обессилен,
каменная сфера не сияет концертами,
прозрачная рама гроба
диверсифицирует встречи
музыкантов и зрителей,
и мешковина бедер
не мешает увидеть
ореола танцующего зада,
и нанизанные лица
летят на сиденья пачками,
и номерки мест
светятся над водою
душным колокольчиком.
Я ласку не отвергаю —
люблю.
1979, 2005
Народ
запахивает шкуры,
летят на крест
из дома на крестах,
кровавые
во сне зари
все рысаки,
снега на санках,
лепят бабу в полушалке,
нагайка в прок,
карета —
телега в кошачьем беге,
пугач в руках красивого ребенка,
тузы
без толстоты задов,
кусок торта
токует у прилавка,
кортик ногтя
шипит у глотки
хозяина.
Русский народ разбегается,
толстый медведь нагибается,
голову рубит клыком,
кровь переводит из живота в живот,
обмакивает в кровь
черные от гнили старой падали
лапы;
таков медведь
в кошачьем сизом беге,
пудрит башку
урод,
ночью не спит,
по Москве кровь сосет.
Костры разжигают буклетами кожи,
проталины снегом забить норовят,
и кучами,
склав
на пожитки
портки,
на битиных рожах
не пщат синяка.
Затем прыжок
в резиновом венце.
Блинцы
намазанные толсто маслом.
На кручах весь народ.
Глотаю
полыни тепло,
кусками кровь,
или чулка носок.
Надеваю лапти,
кику
и сарафан,
дышу на черный ладан,
о горе,
о бедах,
о людях.
Человек-токката,
человек-манишка,
человек-пистоль,
горючий человек.
Начало сумерек.
Прорыдав,
поет о славе лев.
И лошади радовались бурным телом.
И стрелы,
как сирены,
прощали нам распятия.
1979, 2005
И. Г.
ААА…,
стены предместья сдавили!
Пропадающий человек в улицы входит,
носится вскачь,
качается человек,
сомневается человек.
Это последняя ложь.
Сказка из лжи.
Воздух из лжи.
Дохнут народы —
в прах превращаются.
Святостью связанные небеса.
Нам рисунков гору набросали,
на рисунках
мазки из любви.
Краски мешали,
не верили,
все же мешали,
меняли ложь на любовь.
На стыд напоролся.
Слезы – махом.
Уродую тишину.
В морду мозги превратились.
Лапушка-смерть повела под фату.
В райском углу —
мордой жених,
мордой жену целовал.
На крестах тишина.
На кресты тишина.
Мокрым лицом поцелуй прихвачу.
Обещанья рублю кулаками.
Как трудно писать истину,
как горкло писать истину.
Радость-язык
обращаю в нули.
ТАК ПОЦЕЛУЙ ЖЕ МЕНЯ!
Я не шучу!
Безличие на любовь не похоже,
не похожа на расставание ночь.
Я рисую ночную людимую правду.
Славы не жажду,
напротив,
ищу унижения радости.
И, как бранен, покой.
Трон подавился углом пустоты.
Так скорей,
скорей приди!
Я не требую жжения жесткой ладони,
не прошу честности!
Правды,
только любви,
только моей любви!
Или я лгу?
Мой звездный человек
на печаль,
хохоча,
положил свой презренный расчет,
несмотря,
хохоча,
несмотря.
Отвернулся.
На жертвы не идет негодяй.
На российский завет наложу свой венок.
Не видеть вовсе.
Не смотреть в пустую дверь,
не страшиться пустоты России,
не, но.
Знай,
что,
я есть,
что пращою облапил углы,
что лицом нашептывал в темноту:
ТЫТЫТЫ, ТЫ.
Ты ушла,
пораженная будью,
пораженная краской телес.
Возвратиться?
Ну, как?
Нет?
И как чуждо хрипел иноходью мужик,
и как красиво лопались струны участия:
громоздятся в ушах —
в кучи сложены;
я смешиваю,
и никак слово не складывается,
не сложено.
– Я хорошо отношусь!
И это пустяк!
Я хорошо обнимаю!
Я уже когда-то тебя целовала – вот так!
Обнимала – вот так!
Вот так:
обнимали
целовали
прощали, успешно ласкали (если можно нищали).
Все было как-нибудь,
все было лишь потом,
я удержать тебя старался,
или был груб,
невежествен
иль хрупок.
Пускался.
Протестовать не смею
и не льщу победой,
хотя мой храм и пуст.
Сегодня слышу лишь проклятый голос:
– Ты видел травостойный сон! Не более. Сон,
бесплотен,
чуден
и чужой!
НА УЛИЦАХ Я ВИДЕЛ МЕШАНИНУ СТРОЧЕК КРАСОТЫ.
И ПРИСТАВАЛИ ОБРАЗЫ, СОВСЕМ, КАК ДЕТИ —
ПЛАКАЛИ В МОИ КОЛЕНИ.
И я смеялся чинно:
– ЧТО ВЫ, ЧТО ВАМ ОТ МЕНЯ? СЕГОДНЯ Я НЕ ВАШ! МОЕ ЛИЦО В ДРУГИХ КОЛЕНЯХ. И ДРУГИЕ РУКИ, НЕ МОИ, ГЛАЗА МОИ ПРИНИМАЮТ. ЕСТЬ РАДОСТИ УСТА, Я В НИХ ПЛЫВУ, Я В НИХ ТАНЦУЮ.
Хариты побросали свои дела, скрылись.
Хотел увидеть,
но их,
что ползали у ног моих,
нет.
Рассказываю о былом,
о жизни радостей вещу!
По каплям истекающие здания,
пластались трещинами,
могучий дождь
хлестал по щекам подоконников,
сипел,
как будто сто ослов,
и, как маралы,
орали
мачты деревов,
скрипел асфальт,
наш лев вставал на корточки,
росли у парков бороды дождя,
упрямо
скользко
мокли под дождем поляны,
черные улицы во мраках мечты,
косу обронили;
люди искали,
но – нет,
не нашли.
Мечту, словно росу,
заплюют
заблюют
зарастят.
Кричали ручия,
кричали в безразличия людей.
Топот и скрежет, мор и храп, сон.
Красная луна глупо в траву капли роняла,
тело хрипело,
воздух сосал.
Я устал.
Я жадно рву себя, я жадно наедаюсь,
а пусто, а поздно.
Есть время строить кукольные лабазы.
И помни —
я молю тебя,
но верь моим мечтам
и страхам и желаниям,
и ложью все сочти,
и можешь,
все пустое брось,
прости!
1979, 2005
Смерть – листопад на пустой дороге
шум на голой горе
сердце в объятиях льстеца
сила, пружинящая в стуле
зеркало без рамы
синь в облаках
катушка ниток, утонувшая в озере
труба до небес
сердце хорька в зубах кролика
слон, съевший мышь
липа, обросшая волосами
петля в горле
забор перед красавицей мухой
железо мягкое, как язык
зубы шумные, как чайник
окно без стекла
тряпка на руке
красное яблоко
песок стеклянный
гвозди в лысине
крест на грузовике
гора под звездой
яйца на елке
зима у порога
шаман, съевший мороженое
водка, пролитая на грудь
дети разного возраста
щетина под кепкой
венок вокруг подбородка
дверь, открытая в себя
танец на рельсах
белое платье
черные спицы
зрелище конюшни.
1981, 2005
Нам долго клали под языки сплетения из унижений,
краснели,
будто блохи,
мы —
куски сплетенных языков и губ, и побед.
И петухи кричат: КУ!
Кусок, кусок.
Мощеною,
породистой,
природою,
будящей пыль и хвастовство,
идем.
ИДЕМ?… кто бросил?
Кто покрывал молитвою?
КТО?
ВЫ.
Могучей влагой
тишина легла на ночь,
брызжа ночными костными звездами
голенищ домов,
прощая меченосцам асфальтированного люда —
красивого,
в булыжниковых зорях.
Остроты?
Кто ты?
Кто мы?
Нарядных птенцов выпускаем в порядок полетов.
ТУТ Я! ЗДЕСЬ МЫ! Мы – это… это… это то…
Очеловеченные облака.
Врата ада/да на горе,
тропинка захарканная ведет к заре,
и рая мухи все облепили, скрывают все,
все набивают солью;
тела, сотканные из частей ненужных,
из частей тел человеческих,
из мертвых кишок сотканы лики,
из рваных, обнаженных, лишних, грязных, опутанных, —
соткали телеса,
уложили в небеса.
Молимся на небеса под медноголовой крышей,
на чистовые поднебесья,
из безнадежности.
Безвзорный,
заберись на самую высокую,
на самый высокий клык городов.
Видишь, как цветы, распускаются старики?
Растревожили корневища,
лезут глазницами из орбит Земли,
лижут лица языками,
чистят глотки мужики-старики,
кричат:
– Не надо, не живите, не трогайте,
нетрогайте, неживите.
На трон! на трон! на жизнь! на честь!
Живую кровь оседлаем,
ноги под кортики оседлаем.
Местоименный разград горстопов.
Мучаемся матерью поднеблудов,
мордою, мордою – доктора, доктора!
Непотрошеного, непотрошеного!
Летит листок,
ветер рвет,
над облаками задерганный листок радуется.
Хор радуется,
дергается окотлованный служитель.
Ночные берега,
будто березы.
Борода в противоход.
Мечта листопадов добра.
Невзираемые господа жилы по штрекам тянули…
Влачат в муках
мукой обсыпанные руки,
в середину втянув карандаш.
Солнце мужиком наряжают.
Седое солнце грозится от страха,
от страха сияет.
Солнечный хор несется.
Я солнца не вижу необходимости;
круг пыхтит от обжорства,
от семяизлияния лишнего;
круг пыхтит,
ночь если;
ничтожное светило, выставив нос одною мертвою стороною,
не светит
не греет
не пашет,
а злится
а дребезжит
а мордою трется о лоток звездочета —
старое кривое негосподское дупло – ДУПЛО.
Тощие, тощие, тощие; жалкие, жалкие, жалкие.
Поймать под разлуку! Поймать под разлуку!
Извиваются,
будто черви,
мохнатые
бронированные черви,
кольчатые,
стройные черви,
бронзовые,
ласковые черви.
Черви-поезда.
Поезда-мертвецы.
Шагнул.
Курятник накрыт горем.
Глотками курье вставало.
Глотками шест,
громоздясь на рубашии ткани,
с ночью заживо живет,
ткет холсты холстопрочные;
ткацкие рубины,
руки покинув,
направляются.
Лишенный ног паровоз
трели обманчиво поет.
Песня латает.
Уж Авель ногами трезубцы обвил,
уж пахнет дымом петух,
уж черный петух нам обманчиво вверил свои унижения
и перьями неба клочки.
А метр,
метр вонючий,
отмеряет путь паровозам,
замеряет безножие
застывших,
обмеренных,
забытых по течению.
Наклонили и ведра,
пооткрывали и двери,
пораспахнули и окна:
любите
живите
ратуйте и радуйтесь
плачьте
мудрите, храните
бодритесь.
ВОКЗАЛЫ СОЖГИТЕ!
Жгите вокзалы,
в жертв петухов не берите,
жгите вокзалы,
топите свечи из сала детей,
пучки детских волос на фитиль,
на огонь;
верните,
жгите людей,
усыпите людей.
Ищут клады.
Клады ищут гады.
Гады рады.
Мой вокзал ни о чем.
На тяжелых складках паровозного костного лба
выросли рога паровозных гудков.
Может Каин простит людям пятна свои, или доли, свою и чужие, и кинет с плачем чистым, с плачем… кинет, зароет голову в рельсы, обнимет лежащие под откосами поезда.
ДА! ДА! ДА!
Обливаются крови служители, на босые ноги надевают – без сомнения – остроносые подлости. Остроносые шпоры ложатся в гнезда лаковые!
1979, 2005
Душа ждет покоя.
Выйди к колокольням,
выдави из себя голос неба,
оно долго лишало тебя сердца.
Ты вышла из сечи сечей,
швырк по переходу
и наружу к жабрам вагона.
Так умирают дороги: рот,
дот глаза,
колодец тела.
Ключи серебра на постоялом дворе подбери,
нянчи себя.
Режет асфальт скотина толпа.
Северная дама испугана мамой,
уже щеткой сдирает с эскалатора террасы кожу.
Реквием снимет шкуру с соседа.
Псих – сухнет свет.
Крик – брыкнет час.
Тик – хмыкнет дверь.
Описание картинки братства людей в подземном селении метро.
Я – будущее.
1981, 2005
Ты хочешь постичь тебе недоступное.
Ты – порочная и изломанная,
с чувственным телом, нервными руками и стреляющими глазами,
бегаешь в метро по кругу.
Тебе незнакомо ощущение настоящей дороги.
Ты думаешь, что умеешь разговаривать с небом?!
Существование твое никому не нужно —
зря протираешь асфальт.
Носишься с собой, как курица с яйцом.
Не интересно это.
Посмотреть на тебя,
так можно подумать,
что ты пришла из рая,
но я знаю, что твой бог живет в квартире на «Н» этаже.
Святость и доброта твои – шкура, снятая с кого-то.
Тебе хочется поиграть в игры.
Да, ты тянешься к нам,
потому что тебе скучно среди четверых немых.
Тебе хочется новых ощущений.
Но вот настанет час,
открывается дверь,
зажигается свет на твоем постоялом дворе
и ты сникаешь.
Ты обыкновенная содержанка и проститутка.
Вдребезги разбиваются картинки братства людей на примере «шлюхи».
Смешно!
И это будущее?!
1981, 2005
Ты здесь, мой друг? Прости,
забыл проститься, но сон вчерашний и
ночь без сна сегодня… Ну, прости…
Ах, сон! Бредовый, срамной сон…
Перемешались измерения и времена, одно и
тоже пение кровавило эпохи. Гонг
нотой красной пенил небеса. Окно
раскрытое стояло в головах, я видел
всяк и жил всегда, повсюду. И мнил, что
спали звери впопыхах и цирки снов
взрывались. Леса пугались тишины, и
кораблями плыли на восток и запад.
Рушил кров свой, и в безднах тех
чадили тени деревень. Курки, мечи
работали без брака.
В стон рвались
лица, на потеху, в клочья. Под ветром пали,
в водопад стекая, тысячи кос русых.
Век
золотой. Нет ни правительств, а нет их,
нет слуг, все дело в повелениях,
лишь в них сильнее хитрость грека.
И чтоб было пусто им,
рожающим нас слабыми здесь,
на вафельной Земле. Услышит нас Зевес?!
Он безразличен, он никакой – эфирный пилигрим.
Я не ору. Мой мозг всегда
у цели, загадка у руля и киль в воде.
На берегу плоть и глаза. Ты от бездарности
отвык; лечение – начало. А… – город наш
с младенчества. Твой мозг привык. Угас
пыл тела и души, без лишней благодарности
орудовать в пыли или тиши. Для
ненависти и любви ты судьбой
опустошен. Владеешь временною
парой слов. И, главное, шутками
порой заставляешь себя плыть.
Жаль,
ты безногий, встал бы на колени, рот
раскрыл и благодарные наморщил веки,
изнемогая… Познание, великий нищий,
не пригождается уродам. Их дом вестал—
ки берегут.
Вспомни. Впрочем. Нам и вспоминать не
нужно. Видишь, и все тут. Голос говорлив.
Ум ветх, если постоянен. Ум пропадает или
громоздится во вселенной. Но плач по мне
грудь теснит, и зеркало лоснится. В пролив
души войди, останься там черным килем
лодки. Корабль под парусом, рабы в гребцах, да
дети с женами на берегу; огромная
флотилия, – мы незаметно на войну пере —
ключились, – от берега за горизонт ума
заходит. Вселенная в сознание тебя
влетит, ты помертвеешь, сердце курицей снесешь…
Ты соглашаешься?… Больная вера. Жертва.
Внутри? Ну что ты! Холодно и грустно.
Комфорт, желания – вот грот души.
… ты холоден, учен и неуемен к тем,
кто женщина.
Могучим духом хочешь отрезвить
подружку Антигону? Изволь, обольстить
на время чью-нибудь породы Артемидиной.
Вся паперть, площадь вся… Невесты,
упыри… От скуки здесь все. Однообразия
лжецы.
Доверюсь, брошу в кружку… доверие
свободным, рыбам и рабам нелишне.
Сын кто, толпа гудит обычно, обычна
зелень и раскидисты садовые кусты
маслин. Тому бы нового раба. Тот
голоден. Тот нечеловечен. Оратор зычен,
кричит хоть до утра. Но улицы пусты.
Он знает, чем привлечь – кровавый Тодт.
Нездешний бред
открылся, и утихли неудовольствия.
С небес спустились грозы и облака больные, высохшие
разместились на земле и камнях.
… я разве что рассказываю просто
так?! Без развлечений?! Смерть, жизнь ли,
дух – одно единственное место,
куда дойти иль тронуть там ни —
чего нельзя и бесполезно.
Случайно тело нам. Я говорят…
Но видишь ли, Психея, в темном коридоре
приблудила меня, тебя, сама с собою.
Пожалуйста, сам сон.
И лучше ничего, чем кровь породы,
стада не в собственность, и вера не рекою.
1982, 2005
С помощницей свечой разжечь пора мне печи.
Тепло невыносимо. Тени от предметов греют.
Шерсть вздыбится до дна, растают плечи.
На шторе перья в сладком мраке млеют, блеют.
Я в комнате за желтой шторой умираю.
В глаза ломится свет, а я совсем нагой.
Я руки уронил, теперь их поднимаю.
Когда бы были, подхватил рукой или ногой.
Но что за диво, если я исчезну вновь.
Что не поднял, пусть кот и мышь съедают.
Над головою крутят мухи, сострадают.
Так надоела изо рта сплошная вонь.
Я лица погружу в кипящую золу под вечер,
Налью гостям настоянный на серебре янтарь.
Ребенок будет прыгать вам навстречу.
Ещё живой я подымусь, склонюсь, как встарь.
Потеря глаза, какая малость, я тени потерял.
Скелет не помещался в теле, волнуясь, плачет.
Я крылья начал раздавать, сам себе отдал.
Жалеть не стали, плюнули под ноги плоти.
1981, 2005
Две женщины ко мне в ночи пришли,
две женщины.
Поляна мне представилась в ночи,
укрытая золой ночного света,
и две фигуры в голубом стояли на краю поляны,
из глаз торчали сломанные стрелы.
У ног моих лежала странная природа.
За гранью леса и земли
я жду, когда меня убить придут.
1981, 2005
И нежной кожи купола,
и нежный колокол лица,
слеза замерзшая листа —
над ними облака.
Глаза-слоны, как белые цветы,
роняют слезы-лепестки,
и падают они и капают.
Гниют в земле печальные листки.
Тая слепые лики, оба пели —
немые, ломаные люди.
Летая в небе, они хотели
понять линию лица и лепестка.
И холодно вспомни о колыбели —
огромную грудь, белое тело,
детство свое в колыбели.
Звезды пылают надменно и бело.
1983, 2005
И ты горела болью или страхом,
я целовал сухие губы для…
Я умолял, просил: Не надо прахом,
не надо, город, обсыпать её.
Зима – потеха для природы. Только
погоди… наш телефон… и я хочу
лечить твои сухие губы. Стонешь?
Давай сейчас… Завтра позвони. Молчу.
Смотри, у дома лес деревья кинул,
но нежный дом чужой, не наш. Не здесь
глаза больные эти дышат. Минул
голос памяти, остались шум и месть.
1983
Змея у женщины в спине,
тень дерева провисла в небе,
иглой лица пробью окно,
а в комнате возникнет лебедь.
Я слышу запах нежный плеч
и вижу брови черные и бабьи,
и плечи бледные, их нежный цвет,
и зад, как розовые губы рыбьи.
Живот горячий и простой,
рука упрятана в подсвечник,
глаза холодные дугой,
лицо, упрятанное в вечность.
В перчатке рука оголенная вяла.
Лежала.
По рыбьи работали пальцы.
Вяло.
1982, 2005
Снег падал в этот вечер впопыхах,
когда ушли мы от креста и гроба,
нам пели в Гефсиманьевских садах,
мы целовались на чужом пороге.
Ты проклята лишь в собственных глазах
а я люблю твое лицо ночное,
от страха чистое, как легкий прах,
в тебе я жду желание святое.
Мой у нее на шее образок,
а в руках голодная прохлада,
я ее лишь целовал в висок,
а хотел увидеть голым задом.
Такая грудь напомнила нам чашу,
мы пьем тебя и падаем на дно,
конечно, небо звездное глядит в окно,
конечно, я люблю, почти что плачу.
Сегодня пахнет тишиной и болью,
сегодня, кажется, я буду пьян,
я душу вынимаю из подполья,
но падает мой выпитый стакан.
Сегодня ветер между сопок,
сегодня на бульвары выйдешь ты одна,
найду я на ладонях очертания креста,
и в сердце болью нарастает рокот.
Идут по колесу бульвара люди,
у них нет страха перед божеством,
давно забыты ангелы и судьбы,
живут они под огненным крестом.
Мы сядем в поезд длинный и зеленый,
и тепловоз проглотит свечку зла,
и мускул мой голодный и холеный
потянется к огню, и мы сгорим дотла.
И будет день, и море на песке,
и флаги будут на морских просторах,
в разбитом мы останемся стекле,
настанет ночь в последних разговорах.
Твое лицо, печальное как старость,
над городом взметнется в пустоте,
уснет твоя задушенная жалость,
а я воскресну в зыбкой темноте.
1993
На фоне тонких стен сидит усталая блондинка,
и нет лица,
и рот в воде,
и пламень бьется на столе.
Кривые зеркала в глазах,
в них слезы под углом.
Здесь всякий умирает;
или вот так: здесь всякий не живет.
1981, 2005
И тотчас я присоединил волновод своего сердца к книге,
которая лежала в плавнях библиотеки,
и скрипел ее рот голодный,
хватая пустые крылья времени,
которое сидело на диване и стонало,
переговариваясь с одним из последних поколений диванов.
1981
В темной комнате черный диван,
на котором лежал я в истоме,
пошевеливал тело и сам пустовал,
не вмещая иных анатомий.
Лес без света, за окнами ночь,
волосок на стене и
в барометре странствует дождь,
окончание сонной недели.
Обычное место для исторически
ранней эпохи, да сытых настенных зеркал,
из них свет птицей вылетая,
выплескивает образ мой мифический.
1982, 2004
Просто так.
Когда упирается в небо взгляд, когда тени ложатся только от лица, в котором нет и тени жалости, когда свет над горой полыхает пламенем страданий, когда от правды до любви лишь только шаг, только тогда у нас руки перерастают в крылья, только тогда от степени начала до степени понимания останется шаг.
Холодно мне. Красиво мне. Жалобно поет печаль.
1994
Вчера, когда, кажется, что уже небо остановилось над головой, когда ветер застыл наподобие распятия, когда страницы любви унесены ветром, вот только тогда у нас получается сохранить привязанность, а признательность выразить всем, кто нас любит и хранит.