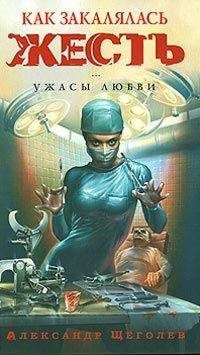Евгений Рейн - Избранное
МУЗЫКА ЖИЗНИ
Музыка жизни — море мазута,
ялтинский пляж под навалом прибоя.
Музыка жизни — чужая каюта…
Дай же мне честное слово, прямое,
что не оставишь меня на причале,
вложишь мне в губы последнее слово.
Пусть радиола поет за плечами,
ты на любые заносы готова.
Флейты и трубы над черным рассудком
Черного моря и смертного часа —
этим последним безрадостным суткам,
видно, настала минута начаться.
Белый прожектор, гуляет по лицам
всех, кто умрет и утонет сегодня,
музыка жизни, понятная птицам,
ты в черноморскую полночь свободна.
Бьются бокалы, и падают трапы,
из «Ореанды» доносится танго,
музыка жизни, возьми меня в лапы,
дай кислородный баллон акваланга.
Что нам «Титаник» и что нам «Нахимов»?
Мы доберемся с тобою до брега,
этот спасательный пояс накинув,
и по пути подберем человека.
В зубы вольем ему чистого спирта,
выльем на душу «Прощанье славянки»,
музыка жизни — победа, обида,
дай мне забвенья на траурной пьянке.
Слышу, что катит мне бочку Бетховен,
Скрябин по клавишам бьет у окраин,
вышли спасательный плот мне из бревен,
старых органов, разбитых о камень.
Тонут и тонут твои пароходы,
падают мачты при полном оркестре,
через соленую смертную воду
пой мне, как раньше, люби, как и прежде.
НОВОГОДНЯЯ ОТТЕПЕЛЬ В ГОРОДЕ ЗЕЛЕНОГОРСКЕ, БЫВШИЕ ТЕРИОКИ
Так важно чавкала трава
под новогодней теплой жижей,
что не замерзла голова
под несезонной кепкой рыжей.
И только бешеный малыш,
скользя на узких санках финских,
прошел по следу старых лыж,
ближайший путь до моря вызнав.
И я пошел туда за ним
средь старых зданий териокских,
и смутный пар, что банный дым,
стоял столбами на торосах.
Здесь был когда-то интернат
в послевоенную годину,
в нем жил я много лет подряд
и в памяти не отодвину
бетонный дзот, где стенгазет
руководил я рисованьем,
над Балтикой предчувствий свет,
что стал моим образованьем.
Под вечер отступал залив,
показывалось дно, мелея,
я становился не болтлив,
тихонько маясь и немея.
В кровосмесительном огне
полусферических закатов
вторая жизнь являлась мне,
ладоши в желтый дым закапав.
И вот я закруглил ее
и снова подошел к заливу.
Я понял за свое житье:
«Все ничего, а быть бы живу».
Стоять в предновогодний час
среди тепла зимы нестойкой,
на дно упрятав про запас
всего один мотивчик бойкий —
жить, жить! В морозе и в тепле,
любой норе, в любых хоромах,
на небе, в море, на земле,
в тиши и маршах похоронных.
НЕЖНОСМО…
Александру Штейнбергу
«Утомленное солнце нежносмо…
нежносмо…
нежносмо…
…Нежно с морем прощалось…»
Режь на сто антрекотов
Мою плоть —
никогда
Не забыть, как пластинка
Заплеталась, вращалась…
Нету тех оборотов —
Ничего. Не беда.
Мы ушли так далеко,
мы ушли так далеко
От холодного моря,
от девятого «А».
Но прислушайся — снова
Нас везут в Териоки,
И от этой тревоги
вкруг идет голова.
Без тоски, без печали
на куски размечали
Нашу жизнь и границы
Выставляли столбы.
То, что было вначале
без тоски, без печали…
Ничего, доберемся,
Это без похвальбы.
И холодное море, пионерские пляжи,
Пионерские пляжи,
крик сигнальной трубы…
Сколько лжи,
сколько блажи,
Все вернется и даже,
даже наши пропажи,
Даже наши труды.
И когда нежно с морем
утомленное солнце
С морем нежным откроет
нам заветный секрет,
И когда нам помашут
териокские сосны,
Мы поймем и увидим,
и увидим, что нет.
Больше не было солнца,
больше не было моря —
Все осталось как было
только там —
навсегда.
Териокские сосны
нам кивнут возле мола,
И погаснет картина —
ничего, не беда.
Утомленное солнце…
нежносмо… выйдет снова,
Мы узнаем друг друга на линейке в саду.
Будет снова красиво,
будет снова сурово…
Утомленное солнце в сорок пятом году.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Ну, чего тебе еще от меня надо?
Почему до сих пор долетает прохлада
этих улиц сырых, прокисших каналов,
подворотен, пакгаузов, арсеналов?
Вот пойду я опять, как ходил ежедневно,
поглядеть, погулять за спиной Крузенштерна…
……………………………………………………
…и вернусь через мост и дойду до Мариинки,
где горят фонари до утра по старинке.
За Никольский собор загляну я украдкой,
там студент прикрепляет топор за подкладкой.
Вот и Крюков канал, и дворы на Фонтанке,
где когда-то гонял я консервные банки,
что мячи заменили нам в году сорок пятом…
Как меня заманили к этим водам проклятым?
Что мне в этом пейзаже у державинской двери?
Здесь при Осе и Саше в петроградском размере,
под унылый трехсложник некрасовской музы
мы держали треножник и не знали обузы.
Мы прощались «до завтра», хорохорясь, цыганя, —
а простились от Автова до Мичигана.
Виден или не виден с чужедальней платформы
сей ампир грязно-желтый, европеец притворный,
этот Дельвиг молочный, и Жуковский румяный,
и кудрявый бессрочный этот росчерк буланый,
вороной и гнедой, как табун на бумаге,
и над гневной Невой адмиральские флаги?
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ В ЛЕНИНГРАДЕ
Под черным лабрадором лежат мой дед и бабка,
средь охтенских суглинков, у будки сторожей.
Цветник их отбортован и утрамбован гладко,
поскольку я здесь не был сто лет — и он ничей.
В свой срок переселились с безумной Украины
они, прельстившись нэпом, кроить и торговать,
под петроградским небом купили половину
двухкомнатной квартиры и стали проживать.
Гремит машинка «зингер», Зиновьев пишет письма,
мой дед торгует платьем в Апраксиной ряду
и, словно по старинке, пирожные в корзинке
приносит по субботам, с налогами в ладу.
А жизнь идет торопко — от бани до газеты,
от корюшки весенней до елочных шаров.
Лети, лети, вагончик, в коммуне остановка,
футболка да винтовка — и пионер готов.
И все это отрада — встают, поют заводы,
и дед в большой артели народу тапки шьет,
а ну, еще полгода, ну, крайний срок — два года —
и все у нас наденут бостон и шевиот.
Но в темном коридоре, в пустынном дортуаре
сжимает Николаев московский револьвер,
и Киров на подходе, и ГПУ в угаре,
и пишет Немезида графу «СССР».
А дед и бабка рады — начальство шьет наряды,
приносит сыр и шпроты, ликер «Абрикотин»,
границы на запоре, и начеку отряды,
и есть кинотеатры для звуковых картин.
А дальше все как надо — обида и блокада,
и деда перевозят по Ладоге зимой,
и даже Немезида ни в чем не виновата,
она лишь секретарша. О боже, боже мой!
Теперь в глубоком царстве они живут, как могут,
Зиновьев, Николаев, Сосо и лысый дед.
И кто кого под ноготь, и кто кого за локоть —
об этом знает только подземный ленсовет.
А я стою и плачу. Что знаю, что я значу?
Великая судьбина, холодная земля!
Все быть могло иначе, но не было иначе,
за все ответят тени, забвенье шевеля.
ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ