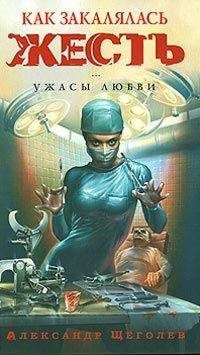Евгений Рейн - Избранное
АВАНГАРД
Это все накануне было,
почему-то в глазах рябило,
и Бурлюк с разрисованной рожей
Кавальери[7] казался пригожей.
Вот и первая мировая,
отпечатана меловая
символическая афиша,
бандероль пришла из Парижа.
В ней туманные фотоснимки,
на одном Пикассо в обнимку
с футуристом Кусковым Васей.
На других натюрморты с вазой.
И поехало и помчалось —
кубо, эго и снова кубо,
начиналось и не кончалось
от Архангельска и до юга,
от Одессы и до Тифлиса,
ну, а главное, в Петрограде —
все как будто бы заждалися:
«Начинайте же, Бога ради!»
Из фанеры и из газеты
тут же склеивались макеты,
теоретики и поэты
пересчитывали приметы:
«Значит, наш этот век, что прибыл…
послезавтра, вчера, сегодня!»
А один говорил «дурщилбыл»
в ожидании гнева Господня.
Из картонки и из клеенки
по две лесенки в три колонки
по фасадам и по перилам
Казимиром и Велимиром.
И когда они все сломали,
и везде не летал «Летатлин»,
догадались сами едва ли
с гиком, хохотом и талантом,
в Лефе, в Камерном на премьере,
средь наркомов, речей, ухмылок
разбудили какого зверя,
жадно дышащего в затылок.
ОТКРЫТКА
О. Чухонцеву
Вот Николаевский мост на открытке,
Изданной Русским Почтовым Союзом.
Время издания — первые годы,
Самые первые годы столетья.
Как объясняют специалисты —
В пятом году заменили конку
Электрическим бельгийским трамваем.
Перед самой войной переложили
Английской набережной парапеты.
Значит, уже тогда открытка
Была историческою картиной.
Что же пенять на новейшее время?
Посередине моста стояла
Часовня святителя Николая,
Покровителя флота.
Ныне — любой убедиться может —
Нету часовни.
Мост носит новое имя,
Имя Петра Петровича Шмидта,
Лейтенанта Черноморского флота.
Пусть же Николай и Петр,
Флотские люди в черных мундирах
С позументом и кантом,
При кортиках оба, оба святые
(Один ветеран христианства, епископ,
Что соответствует каперангу,
И лейтенант, который «Очаков»
В огне и в копоти обрушил на небо),
Соберутся в кают-компании за обедом
И решат повестку из двух вопросов.
Первый: как называть переправу
Площадь Труда — Васильевский остров
(В прошлом мост святителя Николая,
Ныне — мост лейтенанта Шмидта)?
И второй: что делать, если
Флот потоплен, отрезаны базы,
Адмирал скрылся на канонерке?
Объявить кампанию неудачей
Или сражаться до последнего патрона,
Как подобает морской пехоте?
КАРАНТИН
В том году шестидесятом вез меня нечистый поезд
через глину и долину, через Волгу и Урал,
пахло потом, самосадом, и наматывалась повесть.
Я еще был молод, то есть, жить еще не начинал.
Но уже сошел в Ташкенте, огляделся на перроне,
и ко мне явился среднеазиатский мой собрат,
он, пророк и археолог, так сказал мне: «Шуток кроме,
новичкам везет, и, может, мы с тобой откроем клад».
Побывал я в Самарканде.
Там, где Гур-Эмир сверкает
голубыми изразцами, как холодное стекло.
Оказался в карантине. Так бывает, так бывает!
Доложу вам: «Это время незаметно утекло».
В этих дореволюционных номерах, где коридоры
переламывались трижды и четырежды подчас,
где ни разу не давали нам обедов порционных,
где валялись помидоры, проживал я, изловчась
тратить два рубля — не больше — на еду, затем, что деньги
были мне нужны и дальше, в Фергане и в Бухаре,
и случалось — и должно быть, это первое паденье —
подбирал я сухофрукты на базаре в октябре.
Отмывал я их под краном, после баловался чаем,
но не очень интересно чай вприглядку попивать.
И тогда я постучался, ибо в номерочке крайнем
проживали две девицы — демонизм и благодать.
Та, что демон, просто Нина, та, что ангел — Ангелина
Чай кипел у них на плитке и сушилось бельецо,
две недели карантина, и душевная картина —
Ангелина или Нина прямо вам глядят в лицо.
О, брюнетка и блондинка, зоотехник и ботаник,
и одна из Ленинграда, а другая — Кострома.
Сигаретка, свитерочек, миловидная бандитка,
а другая-то, что надо, — так сказала мне сама.
Как я понимал обеих, — и прожженные солями
эти сильные ладошки пожимал и целовал,
изводил остатки денег на букеты и ночами
выпивал под радиолу и немного танцевал.
Нина или Ангелина? Ангелина или Нина?
Черно-белая забота, бледно-черная любовь!
Та головку наклонила, эта высшего полета —
Нина или Ангелина? Ангелина! Стынет кровь.
Я любил вас, я люблю вас, больше никогда не видел,
пролетели две недели, и сложился чемодан.
Но моя тоска бессмертна. Я любил вас в самом деле,
я не знал, что сеть пространства прохудилась по краям.
Вот и мы уплыли тоже! Ни в одном отеле мира,
ни в гостинице районной, ни в Монако в казино
я не встречу вас, не встречу. Этого не будет больше!
Что-то будет, жду я знака. Но пока мне все равно.
В ДИКИХ ЛЕСАХ ПИЦУНДЫ
И тогда разбойникам пришлось спрятаться в диких лесах Пицунды…
(Из записок Дюма-отца)Под новогодний перезвон
Мне снится бледно-синий сон
Про дикие леса Пицунды.
Здесь побывал Дюма-отец,
Настиг злодеев, наконец,
Но мы с тобой не так преступны.
Пойдем, дружок, поговорим,
И нам безумный караим
Продаст вина на шесть копеек.
Ну, что там Лондон и Милан,
Где ты транжирила карман
Среди всесветных неумеек?
Послушай, лучшая вдова,
Все справедливые слова
Про полновесную Венеру.
Тебя и силой не свалить,
Но хочется тебя любить
И перенять твою манеру.
Бушует черноморский вал,
Лютует мировой аврал
От Жмеринки до старых Бруксов,
Но ты крепка, стальная плоть,
Прикрой меня сегодня хоть,
Покуда масло тлеет в буксах.
Прожектор на твоем лице,
И все находится в конце…
Укроемся в лесах Пицунды!
Затеем плутовской роман,
Запрячем в чаще шарабан
И будем, в общем, неподсудны.
Как пахнут амбра и «Шанель»,
Когда выходишь на панель,
Авантюристка и беглянка,
Целую локоть твой крутой,
Дышу твоею красотой
И смазкою родного танка.
О, не сердись! Я прикипел,
Но знаю наш водораздел
И то, что я тебе не нужен.
И, впрочем, слышишь этот звон?
Звонят в Литфонде, кончен сон,
Пойдем-ка на убогий ужин.
«В провинциальном городе чужом…»
В провинциальном городе чужом,
Когда сидишь и куришь над рекою,
Прислушайся и погляди кругом —
Твоя печаль окупится с лихвою.
Доносятся гудки и голоса,
Собачий лай, напевы танцплощадки.
Не умирай. Доступны небеса
Без этого. И голова в порядке.
«Посреди медуницы и мака…»
Посреди медуницы и мака
и в краю голубого вьюнка
наконец-то дождался я знака,
принесенного издалека.
Пролетел, накренясь, надо мною
норд-норд-вест, планерист и посол,
рассказал мне, что стало с тобою,
и потом на посадку пошел.
Кто-то вышел из темной кабины
и сорвал шлемофон на ходу, —
значит, нынче твои именины,
и опять мы, как прежде, в ладу.
Я спустился в забытый розарий
с холодевших альпийских полей
и цветок, заскорузлый, лежалый,
вдел в петлицу кожанки своей.
Ты им будешь — но через четыре
или три воплощенья на свет;
но пока, при тебе, в этом мире
ни пощады, ни выбора нет.
И небес обгорелая синька,
безнадежный космический зной —
черный взор твоего фотоснимка,
проступающий в бездне ночной!
Не гляди! Мне и так одиноко,
мне бесслезные веки свело,
разреши мне вернуться с востока
под твое ледяное крыло.
«У зимней тьмы печали полон рот…»