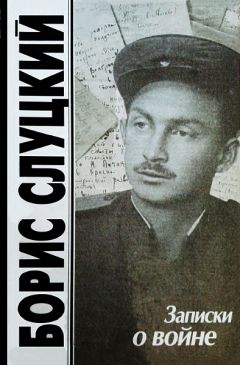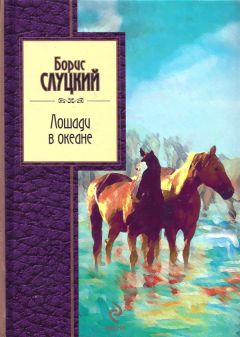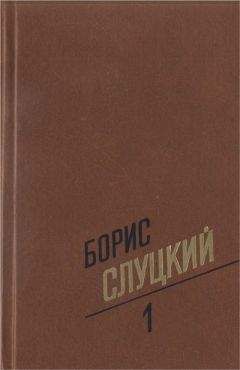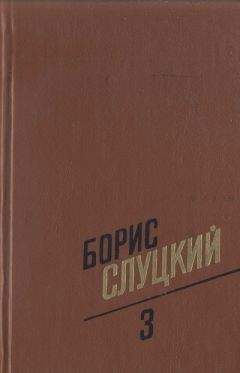Борис Слуцкий - Покуда над стихами плачут...
Однофамилец
В рабочем городке Солнечногорске,
в полсотне километров от Москвы,
я подобрал песка сырого горстку —
руками выбрал из густой травы.
А той травой могила поросла,
а та могила называлась братской,
их много на шоссе на Ленинградском,
и на других шоссе их без числа.
Среди фамилий, врезанных в гранит,
я отыскал свое простое имя.
Все буквы — семь, что памятник хранит,
предстали пред глазами пред моими.
Все — буквы — семь — сходилися у нас,
и в метриках и в паспорте сходились,
и если б я лежал в земле сейчас,
все те же семь бы надо мной светились.
Но пули пели мимо — не попали,
но бомбы облетели стороной,
но без вести товарищи пропали,
а я вернулся. Целый и живой.
Я в жизни ни о чем таком не думал,
я перед всеми прав, не виноват.
Но вот шоссе, и под плитой угрюмой
лежит с моей фамилией солдат.
О погоде
Я помню парады природы
и хмурые будни ее,
закаты альпийской породы,
зимы задунайской нытье.
Мне было отпущено вдоволь —
от силы и невпроворот —
дождя монотонности вдовьей
и радуги пестрых ворот.
Но я ничего не запомнил,
а то, что запомнил, — забыл,
а что не забыл, то не понял:
пейзажи солдат заслонил.
Шагали солдаты по свету —
истертые ноги в крови.
Вот это,
друзья мои, это
внимательной стоит любви.
Готов отказаться от парков
и в лучших садах не бывать,
лишь только б не жарко, не парко,
не зябко солдатам шагать.
Солдатская наша порода
здесь как на ладони видна:
солдату нужна не природа,
солдату погода нужна.
Баня
Вы не были в районной бане
в периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
и плеск,
как летом на реке.
Там ордена сдают вахтерам,
зато приносят в мыльный зал
рубцы и шрамы — те, которым
я лично больше б доверял.
Там двое одноруких
спины
один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
исчеркали
война
и труд.
Там по рисунку каждой травмы
читаю каждый вторник я
без лести и обмана драмы
или романы без вранья.
Там на груди своей широкой
из дальних плаваний
матрос
лиловые татуировки
в наш сухопутный край
занес.
Там я, волнуясь и ликуя,
читал,
забыв о кипятке:
«Мы не оставим мать родную!» —
у партизана на руке.
Там слышен визг и хохот женский
за деревянною стеной.
Там чувство острого блаженства
переживается в парной.
Там рассуждают о футболе.
Там с поднятою головой
несет портной свои мозоли,
свои ожоги — горновой.
Но бедствий и сражений годы
согнуть и сгорбить не смогли
ширококостную породу
сынов моей большой земли.
Вы не были в раю районном,
что меж кино и стадионом?
В той бане
парились иль нет?
Там два рубля любой билет.
Лошади
И. Эренбургу[10]
Лошади умеют плавать.
Но — нехорошо. Недалеко.
«Глория» по-русски значит «Слава».
Это вам запомнится легко.
Шел корабль, своим названьем гордый,
океан старался превозмочь.
В трюме, добрыми мотая мордами,
тыща лошадей топталась день и ночь.
Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
далеко-далёко от земли.
Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.
Что же им было делать, бедным, если
нету мест на лодках и плотах?
Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.
И сперва казалось — плавать просто,
океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил
вдруг заржали кони, возражая
тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали,
все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их —
рыжих, не увидевших земли.
Бесплатная снежная баба
Я заслужил признательность Италии[11],
ее народа и ее истории,
ее литературы с языком.
Я снегу дал. Бесплатно. Целый ком.
Вагон перевозил военнопленных,
плененных на Дону и на Донце.
Некормленых, непоеных военных,
мечтающих о скоростном конце.
Гуманность по закону, по конвенции
не применялась в этой интервенции
ни с той, ни даже с этой стороны.
Она была не для большой войны.
Нет, применялась. Сволочь и подлец,
начальник эшелона, гад ползучий,
давал за пару золотых колец
ведро воды теплушке невезучей.
А я был в форме, я в погонах был
и сохранил, по-видимому, тот пыл,
что образован чтением Толстого
и Чехова, и вовсе не остыл.
А я был с фронта и заехал в тыл
и в качестве решения простого
в теплушку — бабу снежную вкатил.
О, римлян взоры черные, тоску
с признательностью пополам
мешавшие
и долго засыпать потом мешавшие!
А бабу — разобрали по куску.
М. В. Кульчицкий
Одни верны России
потому-то,
другие же верны ей
оттого-то,
а он — не думал, как и почему.
Она — его поденная работа.
Она — его хорошая минута.
Она была отечеством ему.
Его кормили.
Но кормили — плохо.
Его хвалили.
Но хвалили — тихо.
Ему давали славу.
Но — едва.
Но с первого мальчишеского вздоха
до смертного
обдуманного крика
поэт искал
не славу, а слова.
Слова, слова.
Он знал одну награду:
в том, чтоб словами своего народа
великое и новое назвать.
Есть кони для войны и для парада.
В литературе тоже есть породы.
Поэтому я думаю: не надо
Об этой смерти слишком горевать.
Я не жалею, что его убили.
Жалею, что его убили рано.
Не в третьей мировой, а во второй.
Рожденный пасть на скалы океана,
он занесен континентальной пылью
и хмуро спит в своей глуши степной.
Просьбы
— Листок поминального текста!
Страничку бы в тонком журнале!
Он был из такого теста[12] —
ведь вы его лично знали.
Ведь вы его лично помните.
Вы, кажется, были на «ты».
Писатели ходят по комнате,
поглаживая животы.
Они вспоминают: очи,
блестящие из-под чуба,
и пьянки в летние ночи,
и ощущение чуда,
когда атакою газовой
перли на них стихи.
А я объясняю, доказываю:
заметку б о нем. Три строки.
Писатели вышли в писатели.
А ты никуда не вышел,
хотя в земле, в печати ли
ты всех нас лучше и выше.
А ты никуда не вышел.
Ты просто пророс травою,
и я, как собака, вою
над бедной твоей головою.
Мои товарищи
Сгорели в танках мои товарищи —
до пепла, до золы, дотла.
Трава, полмира покрывающая,
из них, конечно, произросла.
Мои товарищи на минах
подорвались,
взлетели ввысь,
и много звезд, далеких, мирных,
из них,
моих друзей,
зажглись.
Они сияют, словно праздники,
показывают их в кино,
и однокурсники и одноклассники
стихами стали уже давно.
Немецкие потери