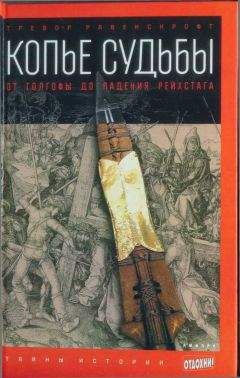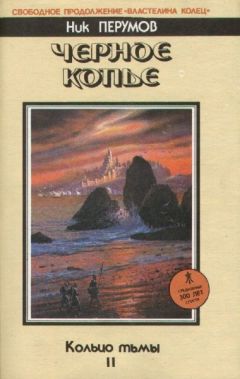Александр Кушнер - Избранное
Всё жду, что будет написан роман о другой любви, - счастливой. Счастливой любви в несчастливых обстоятельствах. Любви, рассчитанной надолго, если не навсегда; не безумной любви, а любви в безумном мире; любви – вечном “страхе и трепете” за любимого человека. “В двадцатом веке надо гибельном Жить, смертоносном, массовидном, Чтоб дело счастья было прибыльным И чувство радости – завидным!”.
“Сравнивая Пруста с поколением довоенных русских, господин Вышеславцев, - говорит Цветаева, - забывает о том, что пить чай, спать днем, а ночью гулять – все это с искусством не имеет ничего общего. Иначе все мы были бы Прустами”. Пруст был бы рад услышать такое мнение. Он и сам утверждал, что биографические подробности, личные черты пишущего – дело второстепенное. Как будто предвидел нашествие нынешних критиков, вооружившихся фрейдистским методом в поисках разоблачительных комплексов, в погоне за ними – для объяснения анатомируемых ими книг. Их интерес лежит вне словесного искусства, вообще вне искусства; поэзия, проза для них в лучшем случае – иллюстративный материал к нескольким банальным положениям психоанализа – и заносится в ту или иную графу таблицы.
Не только Пруст, - Цветаева тоже немало претерпела от них сегодня: стихи отставлены в сторону, всё внимание направлено на то, “спала ли она днем, гуляла ли ночью”, а главное, - с кем спала и с кем гуляла.
Французы, надо отдать им должное, говоря о Прусте, как правило, осторожны и умны. В ханжестве, морализаторстве их не упрекнешь, но большой правовой, демократический опыт, наряду с развитой цивилизацией, приучил их уважать человека и его талант. А кроме того, они, несомненно, вдумчивые и благодарные ученики Пруста, его уроки бесследно для них не прошли. “То, что разные глаза нуждаются в разных очках для корректировки образа, ничего не меняет в принципах оптики; то, что разные существа нуждаются в разных иллюзиях, чтобы испытать желание или ревность, ничего не меняет в ценностях любви”, - пишет Андре Моруа в книге “Поиски Марселя Пруста”, - и поиски эти сосредоточены на самой прозе, - о скользких моментах человеческого облика автора говорится лишь в силу необходимости и всегда целомудренно, с пониманием и состраданием. То же можно сказать, например, о Клоде Мориаке, написавшем книгу “Пруст о себе самом”. У нас – не так. И кажется, Цветаева предчувствовала это, когда утверждала: “Большое достижение Пруста заключается в том, что он обрел жизнь свою в писании, тогда как поколение довоенных русских растратило ее в разговорах”. Цветаева, великий труженик (“Вас положат на обеденный, а меня – на письменный”), увидела в Прусте товарища по образу и смыслу жизни, – это и есть ответ художника, беззащитного перед теми, кто растрачивает жизнь в разговорах, - ответ и сокрушительная победа над ними.
3.
Наш Пруст… Кое-что сказав об этом, интересно зайти с другой стороны, посмотреть, хотя бы мимоходом, вскользь: а что пригодилось Прусту из русской прозы? Достоевский упоминается в романе восемь, Толстой – девять раз! Один раз назван Гоголь. Нет ни Тургенева, ни Чехова (за Чехова очень обидно).
“Передовая” маркиза де Говожо презирала романы из светской жизни; “толстовский мужик, крестьянин Милле являлись тем пределом, за который она не позволяла заходить художнику”.
Ориана, герцогиня Германтская, с присущей ей язвительностью, не побоялась задать русскому великому князю вопрос: “Ваше высочество! Правда, что вы собираетесь убить Толстого?” Она спросила об этом за обедом, и присутствовавшие были восхищены этим “номером” герцогини: “…они не только рады были умереть за Ориану, услыхав, что такая благородная особа – страстная поклонница Толстого, - нет, они чувствовали, как в них самих растет любовь к Толстому и как их неудержимо влечет на борьбу с царизмом”. Ирония Пруста доставляет не меньшее удовольствие, чем его лиризм; кажется, что и Толстого, доведись ему прочесть эти страницы, сцена эта не только позабавила, но и тронула бы, и рассмешила. Любопытно и то, что имя Толстого включено у Пруста в бытовой, повседневный контекст. Толстой и всё, связанное с ним, - естественная, привычная тема разговоров.
Как тут не порадоваться еще и прозорливости Пруста? Одна из реальных герцогинь, с которых он писал свою Ориану, - Елизавета де Грамон, - уже после смерти Пруста, как мы знаем из воспоминаний о нем и его среде, зашла так далеко в своей “левизне”, что заказала в двадцатые годы модному парижскому ювелиру “драгоценную брошь, изображавшую серп и молот”.
Что касается Достоевского, то в романе дается подробнейшая (на несколько страниц) характеристика его писательских приемов, идей и пристрастий. И здесь, кстати сказать, видно, как трудно автору, принадлежащему к другой культуре, оценить явление чужого языка, чужой традиции. Пруст сравнивает героинь Достоевского с женскими образами у Рембрандта! Грушенька и Настасья Филипповна напоминают ему рембрандтовскую Вирсавию. Нам это кажется натяжкой. Уж если вспоминать живопись, то, наверное, лучше обратиться к передвижникам (которых Пруст, разумеется, не знал). И даже респектабельная черноокая девушка в меховой шапке у Крамского кажется более подходящей на такую роль, нежели “куртизанки Карпаччо”, которых называет Пруст, или Вирсавия.
Эти несколько страниц о Достоевском, оформленные как монолог прустовского героя, обращенный к Альбертине (так вот о чем они говорили! нет, мы явно недооцениваем его подружки: “Малыш! Как это досадно, что вы такой лентяй! Вы говорите о литературе интереснее, чем наши учителя!”) содержат еще одно странное утверждение: “Что касается Достоевского, то я не отошел от него, как вам показалось, когда заговорил о Толстом, который во многом ему подражал”. Здесь русский читатель вправе возмутиться: Толстой, мы уверены, слишком самостоятелен и никому никогда не подражал. (Но может быть, со стороны видней?) “У Достоевского есть много такого – но только в сгущенном, сжатом, обличающем виде, - что разовьется потом у Толстого”. Может быть, и впрямь в позднем Толстом есть что-то от Достоевского? В “Крейцеровой сонате”? в “Живом трупе”? в “Воскресении”?
И потом, как бы ни были спорны мысли Пруста о Достоевском и Толстом, есть в них что-то, приковывающее наше внимание. Это “что-то” - тот непривычный ракурс, в котором они предстают у Пруста. “Подобно тому, как Вермеер является творцом не только души человеческой, но и особого цвета тканей и местностей, так Достоевский сотворил не только людей, но и дома” (следует ссылка на “дом с его дворником, где произошло убийство” в “Братьях Карамазовых”, “мрачный, вытянувшийся в длину, высокий, поместительный дом Рогожина, где он убивает Настасью Филипповну”). Пруст так заинтригован Достоевским, что ему мало Рембрандта и Карпаччо, он привлекает еще и Вермеера, т.е. едва ли не самые дорогие имена – для объяснения этого ошеломившего его феномена. А дальше как раз и упоминается в первый и последний раз в романе Гоголь: “Новая, страшная красота дома, новая, сложная красота женского лица – вот то небывалое, что принес Достоевский в мир, и пусть литературные критики сравнивают его с Гоголем, с Поль де Коком – все это не представляет никакого интереса, ибо эта скрытая красота им чужда”.
С Гоголем, с нашей точки зрения, Достоевского сравнивать все-таки верней, чем с Вермеером, (и Гоголь, и Достоевский фантастичны), ведь мы читали и “Шинель”, и “Записки сумасшедшего”, и “Бедные люди”, и “Белые ночи”, и “Село Степанчиково”, но подробный разговор об этом не входит в нашу задачу. Важно другое: важно, что Пруст так увлечен Достоевским (больше, чем Толстым), хотя на Достоевского-то он (и его герой) как раз и не похожи, (“А Достоевский… Все это мне в высшей степени чуждо, хотя есть у меня такие стороны характера, о которых я не имею понятия, - они выявляются постепенно”), что готов для понимания его прибегнуть к Рембрандту, Корпаччо, Вермееру… даже к помощи мадам де Севинье: “Да, а теперь приведите пример из госпожи де Севинье” – “Я признаю, - со смехом ответил я, - что это притянуто за волосы, но примеры я все-таки мог бы найти”…
А мы можем найти следы влияния Достоевского на Пруста – и поможет нам это сделать Чехов. В его “Рассказе неизвестного человека” упоминается эпизод из Достоевского: “В какой-то повести Достоевского старик топчет ногами портрет своей любимой дочери, потому что он перед нею неправ…” Имеется в виду старик Ихменев, герой повести “Униженные и оскорбленные”.
Но, кажется, этот же эпизод поразил и Пруста – и дочь композитора Вентейля во время любовных свиданий со своей старшей подругой ставит на столик портрет умершего отца, делая его свидетелем непристойной, с ее точки зрения, сцены, смеясь над ним и страдая от отвращения к себе. “И все-таки я потом подумал, что если б Вентейль присутствовал при этой сцене, он, может быть, не утратил бы веры в доброту своей дочери и, может быть, даже был бы отчасти прав”.