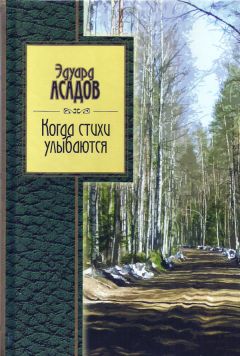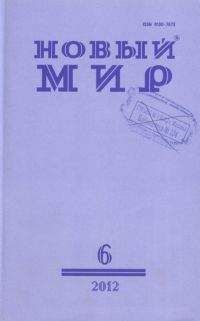Николай Максимов - Голое небо
При внимательном, систематическом и многократном чтении стихов Н. М. Максимова, с соблюдением — в возможных пределах — хронологической последовательности их написания, развитие поэтического пути покойного поэта предстает, как длинная извилистая линия борьбы между индивидуальным, индетерминированным и исторически— неизбежным, детерминированным, а поэтому желанным, хотя и не родным.
Этот антагонизм можно проследить шаг за шагом на всем протяжении десятилетней поэтической деятельности покойного Н. М. Максимова.
После «космических» стихотворений 1918 г., насыщенных энергией, бодростью и патетикой борьбы, уже в следующем году в его поэзии появляются настроения пессимистические, безнадежные. В 1920 г. эти настроения получают особенно сильное выражение в стихотворении «Смерть», представляющем картины Петрограда той эпохи, в частности полуразрушенных крытых рынков на Сенной площади и затонувших барок на Обводном канале:
Смерть
На Сенной пустынной и странной
Высятся остовы мастодонтов:
Люди с них брани железную шкуру
И ломали, кромсали их мясо.
А на Обводном канале —
Все глубже и глубже в зловонную и мутную воду
Погружаются гниющие баржи
И черные торчащие доски,
Словно ребра обглоданных разрухой чудовищ.
Проходя по обезлюженным улицам,
Я знаю только одну страшную мысль:
Я знаю, что в темные волны,
Все глубже и глубже,
Как гниющие баржи на Обводном канале,
Погрузятся и наши сознания.
1920
Эти внешние впечатления поэта переплетаются с его личными настроениями. Вместо прежней бодрой и жизнерадостной энергии, проникающей стихотворения 1918 г., в его стихах последующих лет появляются глубоко-скорбные и мрачные мотивы. В стихотворении «Ма bougie s'eteint» (1919) не чувствуется еще надрыва личного характера, но перевод этого стихотворения, относящийся к 1920 г., говорит уже о глубоко-интимном страдании и душевной муке.
Свеча гаснет
Мне грустно, друг… Повсюду смерть.
Взгляни: мой огонек был ярок,
И вот лишь черненькая жердь
Поддерживает весь огарок.
Все счастье, видишь, сожжено,
И смерть — одна лишь остается,
Как вязко восковое дно
Зелено-ржавого колодца.
Но перед тем как умереть,
Огонь скорбит о доле тленной,
И к меди ластится, но медь
Недосягаема, надменна.
Еще вздохнул… В последний раз
С последней мукой встрепенется…
О, страшный миг! Сейчас, сейчас
Он в бездне жадной захлебнется.
1920
В стихотворениях 1920–1921 гг. личные мотивы начинают занимать все больше и больше места. Но, параллельно с этим, наряду со стихотворениями, посвященными теме — «я» — возникает, как антитеза ее, тема — «вы». Прежний «космический» коллективизм исчезает как будто без остатка. Н. М. Максимов настойчиво противополагает себя пролетариату, как исторической категории. В этом смысле особенно важны стихотворения 1922 г.
Ты мнишь
Ты мнишь, что я — отравленный отравой
Развенчанной, ненужной красоты,
Но думаю, что я имею право
Хоть радоваться, что доволен ты.
Самоуверенный, ты твердо знаешь
Все то, чего не понимаю я,
И ты без колебаний разрешаешь
Все древние загадки бытия.
Ах, твой удел — и мудрость, и геройство,
Мой нежный друг и мой суровый враг,
Но праздность, это — злое свойство
Таких, как я: безумцев и гуляк.
1922
Иногда он как будто пытается объяснить самому себе эволюцию, происшедшую с ним со времени «Железного космоса» и «Железной песни»; порою ему кажется, что прежние его ожидания обмануты, что вместо чаянной «всемирной весны», настала «зима истории».
Мечтал я о синей
Всемирной весне,
История стынет
В морозной броне.
И все-таки нежность
Мою берегу,
Что словно подснежник
На вашем снегу.
1922
Та же тема варьируется в стихотворении «Зима истории».
Зима истории сурова,
Еще весны не пробил час,
И тучность снежного покрова
Еще отягощает глаз.
О, как противны мне сугробы
Холодной косности и злобы!
Ведь я веселый, я сквозной,
Совсем как раннею весной
Зеленоватый пух лесной.
1922
И современность, — по его тогдашней терминологии, «Зима истории» — заставляет уходящего в свое «я» поэта обращаться к прошлому, к его декоративной стороне, к пышности его зрелищ, к его ветшающей эстетике. «Отравленный отравой развенчанной, ненужной красоты», Н. М. Максимов охотно обращается к памятникам прежней культуры. В стихотворении «Екатерингоф» (1918) экскурс в область прошлого связан у него с некоторым усилием:
И не вспомнить без усилья
Все величье прежних дней.
И несмотря на элегический тон, он все же не жалеет об этой ушедшей красоте:
Нет, о прежнем, пышном, гордом
Здесь не вспомнить… ничего!
Но в дальнейшем это влечение к историческим мотивам, к художественным памятникам старины порождает у Н. М. Максимова ряд стихотворений, проникнутых большей симпатией к «развенчанной, ненужной красоте»: «Павловск» (1921), «Казанский собор» (1925), «С вышки Исаакиевского собора» (1925) и др.
И не только архитектурные памятники являются темой его стихов в этот период. Литературные, книжные образы усиленно привлекают внимание покойного поэта, на страницах его стихов встречаются «Сальери» (стр. 28), «Крез» (стр. 44), «Алхимик» (стр. 52), «Кремонский скрипач» (стр. 59), «Кин» (стр. 62) и др. Проблемы искусства постепенно образуют самостоятельный раздел, особую тему в поэтической продукции этих лет. Что такое искусство? — неоднократно задает он себе в эти годы вопрос. И два ответа дает он на поставленную задачу. С одной стороны, для него искусство — расчет, математика, формула, «оледенелость».
Коснися легкой кистью полотна,
Коснись резцом прекрасного металла,
И будет то, что пламенем металось,
Вдруг заморожено на времена.
Да, я люблю тот вестовой флажок
На улице, где бешеная скорость,
Взовьется он, — и не летят моторы
И буйства мерного не бьется ток.
И я познал: искусство — не любовь,
И не призыв, не жадное движенье,
И флаг его — лишь флаг успокоенья,
Что тормозит в кипучем сердце кровь.
Но, вместе с тем, Н.М. Максимов чувствовал, что есть и другой источник искусства, — сама жизнь.
Все говорят: искусство не игра,
Нам праздное волненье надоело,
И что теперь поэты? Мастера
Упрямые, с душой оледенелой.
Да, я люблю творенья мастеров,
Но думаю, что радости и муки
Соткут узоры самых лучших строф
И самые изысканные звуки.
И если только блеск и красота
Стихи мои, и нет в них искр горячих,
Я буду ждать, сурово сжав уста,
Биеньем сердца созданной удачи.
Неоднократно возвращаясь к этой теме, Н. М. Максимов особенно много внимания уделил ей в цикле «Стихов о балете». Характерно, что тема балета, несмотря на высокую культуру этого искусства в дореволюционной России, сравнительно мало привлекала поэтов. В собранной Е. Боричевским антологии «Мир искусства в образах поэзии» (Москва, 1922) есть, правда, немало стихов, посвященным танцам, но при внимательном рассмотрении оказывается, что в большинстве, в подавляющей массе их, говорится скорее о музыке танца, о настроении поэта под впечатлением пляски, но никак не о самом хореографическом искусстве.
У поэтов-акмеистов, так страстно влюбленных в конкретные искусства — архитектуру, скульптуру и живопись, — танец занимает ничтожно малое место. Н. Гумилев откровенно заявлял в стихотворении «Т. П. Карсавиной»:
Любит высокое небо и древние звезды поэт,
Часто он пишет баллады, но редко ходит в балет.
Семь стихотворений Н. М. Максимова о балете представляют на этом фоне явление совершенно оригинальное и значительное. С детских лет посещавший балетные спектакли, внимательно следивший впоследствии за балетным репертуаром, он прекрасно чувствовал и понимал своеобразие этого пространственного искусства. Пластичность балета, напряженность проявления личности артиста в условиях строгого соблюдения традиционной балетной техники, безмолвная выразительность этого искусства — все это постоянно привлекало к себе Н. М. Максимова. Вдохновение или расчет, вопрос этот с неизбежностью и неотразимостью всплывал перед ним и в этой области. Особенно настойчиво касается Н. М. Максимов того обстоятельства, что в заученности, оледенелости традиции балетного действа проявляется «высокое чудо искусства».