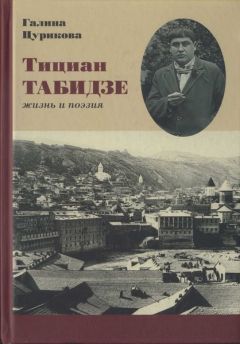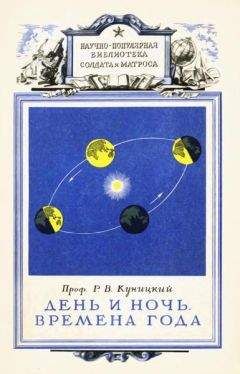Галина Цурикова - Тициан Табидзе: жизнь и поэзия
В искусстве — не только в поэзии — царит смутное, в клочья рвущееся сознание безумства происходящего, тревожное предчувствие, предощущение гибели насквозь прогнившего, утратившего устойчивость жизнеустройства.
Войны в стихах Тициана Табидзе нет: есть войною порожденное состояние потерянности в этом жестоком мире — в море крови и слез:
Кто в этот сад впустил ребенка?
Кто душу городов
Исполнил ядовитым дымом,
Застлавшим все вокруг?
В буквальном переводе читается еще определенней: «Кто напустил дым от сгоревших городов в мою душу?».
Зачем за всадником летящим
Тень вырастает в зов?
В пустыне я, но почему же
Я вижу свежий луг?
Характерна эта заключительная фраза, освещенная надеждой, не похожая на «похоронные» финалы многих более ранних стихотворений: в ней детская, не утраченная поэтом способность радоваться жизни, верить в нее.
С именем Блока связан «налет романтизма» — так называл Тициан свои патриотические мечтания, — который долго сопутствовал ему в поэзии (это дало некоторым критикам право называть Т. Табидзе «грузинским Блоком»), «Налет романтизма» не исчезнет и в зрелом творчестве Тициана Табидзе; со временем это сблизит его в какой-то мере с грузинскими романтиками: Николозом Бараташвили, Григолом Орбелиани, с «условным романтиком» Важа Пшавела. К тому же более позднему времени Тициан отнесет свой период «творческих заблуждений».
«Односторонне и пристрастно понимая классическое наследство грузинской поэзии, мы заразились от него националистическими концепциями», — так он это сформулирует в апреле 1936 года. Осторожная формулировка продиктована, скорее всего, инстинктом самозащиты. Дело в том, что хотя Тициану всегда было чуждо и невыносимо проявление каких бы то ни было националистических пристрастий во всех областях жизни, будь то искусство, языкознание, быт, — в том смысле, как мы это понимаем, — он сам все же не был уверен, что в трудное время всеобщих обвинений и покаяний нельзя будет и его в чем-либо обвинить. Именно поэтому в автобиографии, написанной в качестве предисловия к первому — и при жизни последнему — сборнику стихотворений Тициана Табидзе, вышедшему в переводе на русский язык в Москве, появились эти странно звучащие сегодня покаянные ноты: стремление поспокойнее и помягче сформулировать то, что могут более жестко и пристрастно определить другие. В рукописи автобиографии в этом месте больше всего вычерков и исправлений. Ссылка на классиков — смягчающее вину обстоятельство: «Несмотря на новизну темы и ощущение пейзажа, я все же думаю, — пишет он, к примеру, — что иногда я, конечно, отталкивался от классиков»; дальше идет фраза, не вошедшая в окончательный текст: «В этом (зачеркнуто: „я вижу корень своих ошибок, не обходившихся иногда без…“) было иногда выявление националистического рецидива». Зачеркнуто: «Если лишить грузинских поэтов темы патриотизма, почти ничего от них не останется». Он это понимал, но не решался сказать; он сердился сам на себя и спорил сам с собой, — с тем, искавшим удобную форму «покаяния».
И снова за ним вставала незримая тень Александра Блока.
«На самом же деле, — подсказывал Блок, — что особенно самоуверенного в том, что писатель, верующий в свое призвание, каких бы размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что болеет ее болезнями, страдает ее страданиями, сораспинается с нею и в те минуты, когда ее измученное тело хоть на минуту перестают пытать, чувствует себя отдыхающим вместе с нею?..
Чем больше чувствуешь связь с родиной, — утверждал Блок, — тем реальнее и охотней представляешь ее себе, как живой организм; мы имеем на это право, потому что мы, писатели, должны смотреть жизни как можно пристальнее в глаза…
Мы, — подчеркивал Блок, — не государственные люди и свободны от тягостной обязанности накидывать крепкую стальную сеть юридических схем на разгоряченного и рвущегося из правовых пут зверя.
Мы люди, — пояснял Блок, — и значит — прежде всего обязаны уловить дыхание жизни <…> почувствовать, как живет и дышит то существо, которого присутствие мы слышим около себя…
Родина — древнее, бесконечно древнее существо, большое, потому неповоротливое, и самому ему не счесть никогда своих сил, своих мышц, своих возможностей…»
Блоку виделась Русь, вздернутая на дыбы, разгневанная и рвущая путы, — «Россия начала нашего века».
Время было неудобное для дискуссий даже с самим собой, — Тициан воздержался выносить этот спор на люди…
Классикам все же пришлось это взять на себя — к чему бы им от этого отрекаться? «Грузинские поэты XIX века возвели в идеал формулу А. Мицкевича, что родину любит тот, что ее потерял, — написал Тициан. — Они восхваляли историческую Грузию, героические подвиги, романтику рыцарских обычаев, а Важа Пшавела распад родового быта ощущал, как конец мира. Но что было закономерно, даже действенно раньше, потеряло всякое оправдание в наши дни». В этом была оценка и собственного своего дореволюционного творчества, ибо поэтическая формула Адама Мицкевича: «Родину любит тот, кто ее потерял», — основа поэтического цикла Табидзе «Халдейские города».
…Сознание трагической участи порабощенной в условиях социального и национального гнета Грузии. Настоящему противостоит величие «прародины» — Халдеи.
«Воспевая Халдею как прародину, — вспоминает Тициан, — я больше восходил к историческим истокам, почти позабыв о „цветах зла“».
Мечта целует прошлого следы,
Халдеи сны плывут передо мной:
Нас души предков — яростны, тверды —
Влекут к химерам Грузии родной!
На подвиги твои, отчизна гор,
Столетий опускается вуаль,
Но древней славы вновь горит костер,
И на востоке вспыхивает даль.
Надежды древней медленный напев,
Слова о счастье сгубленном слышны…
Пустыня спит, от зноя онемев,
Проносятся над ней былые сны…
«Сны Халдеи» — напоминание о древней славе, о пройденных путях, о городах, когда-то знаменитых (теперь — «ничтожество и прах»): но это — и «медленный напев надежды».
В душе поэта рыдает голос предков — «прародителей-магов».
Ему припоминаются слова священных заклинаний, «забытые в веках», «залитый солнцем путь к Сидону» (Сидон — богатый древний порт на Средиземном море); мнится «алтарь победы», поправший песок пустыни:
Созрев для песнопений мощных,
Излиться жаждет дух, —
Теней величественных зова
Благоговейно жду…
Всю жизнь томлюсь по беспредельным
Путям… Далек мой путь…
Под солнцем пламенным Халдеи
Хочу навек уснуть.
Вся эта «беспредельность» могла бы показаться бутафорской, — подражанием Брюсову, — если бы не лирический пафос, перекидывающий мостки в реальную современность.
Исторический «реквизит» прикрывает живые чувства.
Монументально стилизованный брюсовский «царь царей» в стихотворении Табидзе «Асаргадон твоей упился плотью…» («Цветы») становится лирической деталью — символом Времени, образом вечной незыблемости человеческих чувств (любовь становится «исторической» темой). «Похороненная», «дальняя» любовь — бессмертнее «царя царей» Асаргадона:
Глаз голубой лишь светит в целом мире,
Как светлячок, игрой пленяет женской;
И молится в ночи бездомный лирик,
В том свете голубом узнав блаженство.
И долго-долго голубое око
Слепить поэтов одиноких будет,
И лирик пожалеть заставит бога —
Пускай за одиночество не судит
«Восходя к историческим истокам», Тициан Табидзе рядит в исторические одежды и любовную лирику. В стихотворении «Фатьма-Хатун» он берет за «исток» поэму Шота Руставели, воскрешая образ одной из его героинь: Фатьма-Хатун — жена богатого купца Усена, легко дарящая проезжим и прохожим свою любовь:
Терзает душу девы отраженье.
Фатьма-Хатун, твой взгляд мне сны прожег!
О милый призрак, множащий мученья,
Когда бы прошлое вернуть я мог!..
Переписав стихотворение на открытку, Тициан по почте послал его знакомой девушке, которую звали Фатьма, бывшей кутаисской гимназистке, у которой он спрашивал когда-то: нравится ли ей Гедда Габлер?