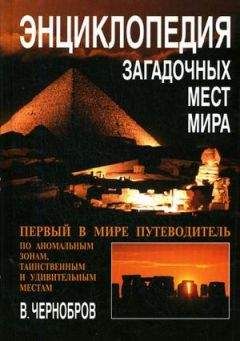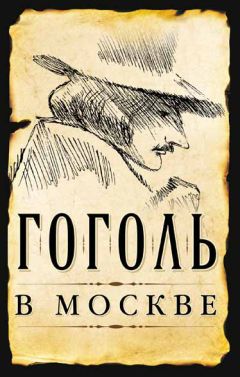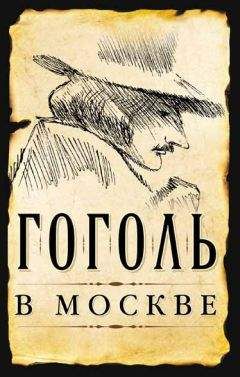Булат Окуджава - Под управлением любви
Американская фантазия
Л. Лосеву
Столица северного штата – прекрасный город
Монпелье.
Однако здесь жара такая, что хочется ходить в белье.
Да, да, в белье. Да, да, в исподнем. Да, да, пусть
даже в прошлогоднем,
а впрочем, лучше без него.
Как в том дарованном господнем, чтобы предстать
пред этим полднем рисунком тела своего.
Да, да, пожалуй обнаженным, лишь долларами
снаряженным,
в ладошке потной их держа,
и с этой потною ладошкой, как будто с деревянной
ложкой,
перед витринами кружа.
Моя московская ладошка, в тебя вложить совсем
немножко,
и эти райские места благословят мои уста.
Мои арбатские привычки к пустому хлебу и водичке
здесь обрывают тормоза, когда витрины бьют в глаза.
Удар – и вой в пустом желудке, не слишком
явственный, но жуткий,
людей пугающий окрест.
Но этот тип, на вид опасный – всего лишь
странничек несчастный,
и он Вермонта не объест.
Глоток – и все преобразилось: какая жизнь,
скажи на милость!
Я распрямляюсь наяву.
Еще глоток – и что там будет: простит ли Бог
или осудит,
что так неправедно живу?
Да, этот тип в моем обличье, он так беспомощен
по-птичьи,
так по-арбатски бестолков.
Он раб минувших сантиментов, но кофию за сорок
центов
ему плесните без долгов.
Дитя родного общепита, пустой еды, худого быта,
готов к свершениям опять.
И снова брюхо его сыто, но… на ногах растут копыта,
да некому их подковать.
Америка в оцепененье: пред ней прыжками,
по-оленьи
я по траве вермонтской мчусь.
И, непосредствен, словно птица, учу вермонтцев
материться
и мату ихнему учусь.
«Мне нравится то, что в отдельном…»
Мне нравится то, что в отдельном
фанерном домишке живу.
И то, что недугом смертельным
еще не сражен наяву,
и то, что погодам метельным
легко предаюсь без затей,
и то, что режимом постельным
не брезгаю с юных ногтей.
Но так, чтобы позже ложиться,
и так, чтобы раньше вставать,
а после обеда свалиться
на жесткое ложе опять.
Пугают меня, что продлится
недолго подобная блажь…
Но жив я, мне сладко лежится —
за это чего не отдашь?
Сперва с аппетитом отличным
съедаю нехитрый обед
и в пику безумцам столичным
ныряю под клетчатый плед,
а после в порыве сердечном,
пока за глазами черно,
меж вечным и меж быстротечным
ищу золотое зерно.
Вот так и живу в Подмосковье,
в заснеженном этом раю,
свое укрепляя здоровье
и душу смиряя свою.
Смешны мне хула и злословье
и сладкие речи смешны,
слышны мне лишь выхлопы крови
да арии птичьи слышны.
Покуда старается гений
закон разгадать мировой,
покуда минувшего тени
плывут над его головой
и редкие вспышки прозрений
теснят его с разных сторон,
мой вечер из неги и лени
небесной рукой сотворен.
И падает, падает наземь
загадочный дождик с небес.
Неистовей он раз за разом,
хоть силы земные в обрез.
И вот уж противится разум,
и даже слабеет рука,
но будничным этим рассказом
я вас развлекаю слегка.
На самом-то деле, представьте,
загадочней все и страшней,
и голос фортуны некстати,
и черные крылья за ней,
и вместо напрасных проклятий,
смиряя слепой их обвал,
бегу от постыдных объятий
еще не остывших похвал.
Во мгле переделкинской пущи,
в разводах еловых стволов,
чем он торопливей, тем гуще,
поток из загадок и слов.
Пока ж я на волю отпущен,
и слово со мной заодно,
меж прожитым и меж грядущим
ищу золотое зерно.
Жаркий полдень в Массачусетсе
Джоан Афферика
Какая-то птичка какой-то свисточек
настроила вдруг на июль голубой.
Не знает заботы, поет и стрекочет,
не помнит ни зла, ни обид за собой.
О, как неожидан дебют ее сольный!
Он так поражает и сердце и слух,
как дух Массачусетса, жаркий и вольный,
как Латвии дальней полуденный дух.
Я музыку эту лелею и холю
и каждую ноту ловлю и ценю,
как вновь обретенную вольную волю,
которую сам же всю жизнь хороню…
Шуршание клена. Молчанье гранита.
И птичка, поющая соло свое.
И трудно понять, где таится граница
меж болью моею и песней ее.
«Вроцлав. Лиловые сумерки…»
Вроцлав. Лиловые сумерки.
Первые соки земли.
Страхи вчерашние умерли,
новые – где-то вдали.
Будто на мартовском острове
не расставаясь живем,
всё еще братьями-сестрами
гордо друг друга зовем.
Нашу негромкую братию
не погубило вранье.
Всё еще, слава Создателю,
верим в спасенье свое.
Сколько бы мартов ни минуло,
как ни давила бы мгла,
только бы Польска не сгинула,
только б Россия смогла.
«Полночь над Босфором. Время тишины…»
Полночь над Босфором. Время тишины.
Но в стамбульском мраке, что велик и нем,
крики моих предков преданных слышны…
Инч пити асем? Инч пити анем?[4]
Если б можно было, как заведено,
вытравить из сердца, позабыть совсем!
Но на древних плитах – черное пятно…
Инч пити анем? Инч пити асем?
Это ль не отрава? Это ли не яд?
Полночь быстротечна. Времени в обрез.
Если я не знаю, ты, мой дальний брат,
Инч пити асес? Инч пити анес?[5]
«Европа пьет водичку из Босфора…»
Анатолию Рыбакову
Европа пьет водичку из Босфора
и Азия. Вода на всех одна.
Босфор для них – дорога и опора,
но кровь веков на дне его видна.
Неужто ради золота и пищи
от лет младых до гробовой доски
мы столько поистратили кровищи,
что сердце холодеет от тоски?
За все платить приходится жестоко.
Все остальное – суета и прах.
За черный камень, брошенный в пророка,
за слезы на его похоронах.
Когда придут большие перемены —
не ради власти, злата и жратвы
очнется мир и вскроет себе вены
длиною от Босфора до Москвы.
Красный клен
Красный клен, мое почтение!
Добрый день, вермонтский друг!
Азбуки твоей прочтение
занимает мой досуг.
Каждый лист твой что-то важное
говорит ученику
в это жаркое и влажное
время года на веку.
Здесь из норвичского скверика
открывается глазам
первозданная Америка,
та, что знал по «голосам».
Здесь, как грамота охранная,
выдана на сорок дней
жизнь короткая и странная
мне и женщине моей.
Красный клен, в твоей обители
нет скорбящих никого.
Разгляди средь всех и выдели
матерь сына моего.
Красный клен, рукой божественной,
захиревшей на Руси,
приголубь нас с этой женщиной,
защити нас и спаси.
«Париж для того, чтоб ходить по нему…»
Париж для того, чтоб ходить по нему,
глазеть на него, изумляться,
грозящему бездной концу своему
не верить и жить не бояться.
Он благоуханием так умащен,
таким он мне весь достается,
как будто я понят уже и прощен,
и праздновать лишь остается.
Париж для того, чтоб, забыв хоть на час
борения крови и классов,
войти мимоходом в кафе «Монпарнас»,
где ждет меня Вика Некрасов.
«Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою…»
Рахели
Сладкое бремя, глядишь, обернется копейкою:
кровью и порохом пахнет от близких границ.
Смуглая сабра с оружием, с тоненькой шейкою
юной хозяйкой глядит из-под черных ресниц.
Как ты стоишь… как приклада рукою касаешься!
В темно-зеленую курточку облачена…
Знать, неспроста предо мною возникли, хозяюшка,
те фронтовые, иные, м о и времена.
Может быть, наша судьба как расхожие денежки,
что на ладонях чужих обреченно дрожат…
Вот и кричу невпопад: до свидания, девочки!
Выбора нет! Постарайтесь вернуться назад!..
Романс («В Иерусалиме первый снег…»)
В. Никулину
В Иерусалиме первый снег.
Побелели улочки крутые.
Зонтики распахнуты у всех
красные и светло-голубые.
Наша жизнь разбита пополам,
да напрасно счет вести обидам.
Все сполна воздастся по делам
грустным и счастливым, и забытым.
И когда ударит главный час
и начнется наших душ поверка,
лишь бы только ни в одном из нас
прожитое нами не померкло.
Потому и сыплет первый снег.
В Иерусалиме небо близко.
Может быть, и короток наш век,
но его не вычеркнуть из списка.
«Тель-авивские харчевни…»
Тель-авивские харчевни,
забегаловок уют,
где и днем, и в час вечерний
хумус с перцем подают.
Где горячие лепешки
обжигают языки,
где от ложки до бомбежки
расстояния близки.
Там живет мой друг приезжий,
распрощавшийся с Москвой,
и насмешливый, и нежный,
и снедаемый тоской.
Кипа, с темечка слетая,
не приручена пока…
Перед ним – Земля Святая,
а другая далека.
И от той, от отдаленной,
сквозь пустыни льется свет,
и ее, неутоленной,
нет страшней и слаще нет…
…Вы опять спасетесь сами.
Бог не выдаст, черт не съест.
Ну, а боль навеки с вами,
боль от перемены мест.
«Вы говорите про Ливан…»