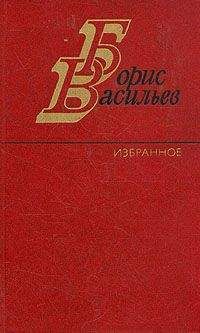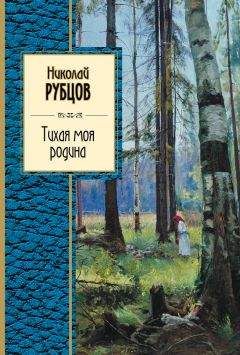Борис Корнилов - Стихотворения
1936
Чиж
За садовой глухой оградой
ты запрятался — серый чиж…
Ты хоть песней меня порадуй.
Почему, дорогой, молчишь?
Вот пришёл я с тобой проститься,
и приветливый и земной,
в лёгком платье своём из ситца
как живая передо мной.
Неужели же всё насмарку?..
Даже в памяти не сбережём?…
Эту девушку и товарку
называли всегда чижом.
За веселье, что удалось ей…
Ради молодости земли
кос её золотые колосья
мы от старости берегли.
Чтобы вроде льняной кудели
раньше времени не седели,
вместе с лентою заплелись,
небывалые, не секлись.
Помню волос этот покорный,
мановенье твоей руки,
как смородины дикой, чёрной
наедались мы у реки.
Только радостная, тускнея,
в замиранье, в морозы, в снег
наша осень ушла, а с нею
ты куда-то ушла навек.
Где ты — в Киеве? Иль в Ростове?
Ходишь плача или любя?
Платье ситцевое, простое
износилось ли у тебя?
Слёзы тёмные в горле комом,
вижу горести злой оскал…
Я по нашим местам знакомым,
как иголку, тебя искал.
От усталости вяли ноги,
безразличны кусты, цветы…
Может быть, по другой дороге
проходила случайно ты?
Сколько песен от сердца отнял,
как тебя на свиданье звал!
Только всю про тебя сегодня
подноготную разузнал.
Мне тяжёлые, злые были
рассказали в этом саду,
как учительницу убили
в девятьсот тридцатом году.
Мы нашли их, убийц знаменитых,
то — смутители бедных умов
и владельцы железом крытых,
пятистенных и в землю врытых
и обшитых тёсом домов.
Кто до хрипи кричал на сходах:
— Это только наше, ничьё…
Их теперь называют вот как,
злобно, с яростью… — Кулачьё…
И теперь я наверно знаю —
ты лежала в гробу, бела, —
комсомольская, волостная
вся ячейка за гробом шла.
Путь до кладбища был недолог,
но зато до безумья лют —
из берданок и из двустволок
отдавали тебе салют.
Я стою на твоей могиле,
вспоминаю во тьме дрожа,
как чижей мы с тобой любили,
как любили тебя, чижа.
Беспримерного счастья ради
всех девчат твоего села,
наших девушек в Ленинграде,
гибель тяжкую приняла.
Молодая, простая, знаешь?
Я скажу тебе, не тая,
что улыбка у них такая ж,
как когда-то была твоя.
1936
Дети
Припоминаю лес, кустарник,
незабываемый досель,
увеселенья дней базарных —
гармонию и карусель.
Как ворот у рубахи вышит —
звездою, гладью и крестом,
как кони пляшут, кони пышут
и злятся на лугу пустом.
Мы бегали с бумажным змеем,
и учит плавать нас река,
ещё бессильная рука,
и ничего мы не умеем.
Ещё страшны пути земные,
лицо холодное луны,
ещё для нас часы стенные
великой мудрости полны.
Ещё веселье и забава,
и сенокос, и бороньба,
но всё же в голову запало,
что вот — у каждого судьба.
Что будет впереди, как в сказке, —
один индейцем, а другой —
пиратом в шёлковой повязке,
с простреленной в бою ногой.
Так мы растём. Но по-иному
другие годы говорят:
лет восемнадцати из дому
уходим, смелые, подряд.
И вот уже под Петербургом
любуйся тучею сырой,
довольствуйся одним окурком
заместо ужина порой.
Глотай туман зелёный с дымом
и торопись ко сну скорей,
и радуйся таким любимым
посылкам наших матерей.
А дни идут. Уже не дети,
прошли три лета, три зимы,
уже по-новому на свете
воспринимаем вещи мы.
Позабываем бор сосновый,
реку и золото осин,
и скоро десятифунтовый
у самого родится сын.
Он подрастёт, горяч и звонок,
но где-то есть при свете дня,
кто говорит, что «мой ребёнок»
про бородатого меня.
Я их письмом не побалую
про непонятное своё.
Вот так и ходит вкруговую
моё большое бытиё.
Измерен весь земной участок,
и я, волнуясь и скорбя,
уверен, что и мне не часто
напишет сын мой про себя.
1936
Память
По улице Перовской иду я с папироской,
пальто надел внакидку, несу домой халву;
стоит погода — прелесть, стоит погода — роскошь,
и свой весенний город я вижу наяву.
Тесна моя рубаха, и расстегнул я ворот,
и знаю, безусловно, что жизнь не тяжела —
тебя я позабуду, но не забуду город,
огромный и зелёный, в котором ты жила.
Испытанная память, она моя по праву, —
я долго буду помнить речные катера,
сады, Елагин остров и Невскую заставу,
и белыми ночами прогулки до утра.
Мне жить ещё полвека, — ведь песня не допета,
я многое увижу, но помню с давних пор
профессоров любимых и университета
холодный и весёлый, уютный коридор.
Проснулся город, гулок, летят трамваи с треском…
И мне, — не лгу, поверьте, — как родственник, знаком
и каждый переулок, и каждый дом на Невском,
Московский, Володарский и Выборгский райком.
А девушки… Законы для парня молодого
написаны любовью, особенно весной, —
гулять в саду Нардома, знакомиться — готово…
ношу их телефоны я в книжке записной.
Мы, может, постареем и будем стариками,
на смену нам — другие, и мир другой звенит,
но будем помнить город, в котором каждый камень,
любой кусок железа навеки знаменит.
1936
«Всё уйдёт. Четыреста четыре»
Всё уйдёт. Четыреста четыре
умных человеческих голов
в этом грязном и весёлом мире
песен, поцелуев и столов.
Ахнут в жижу чёрную могилы,
в том числе, наверно, буду я.
Ничего, ни радости, ни силы,
и прощай, красивая моя.
. . .
Сочиняйте разные мотивы,
всё равно недолго до могилы.
1935 (?)
«Вы меня теперь не трожте»
Вы меня теперь не трожте —
мне не петь, не плясать —
мне осталось только локти
кусать.
Было весело и пьяно,
а теперь я не такой,
за четыре океана
улетел мой покой.
Шепчут листья на берёзах:
— Нехороший ты, хмельной…
Я иду домой — тверёзых
обхожу стороной.
Пиво горькое на солоде
затопило мой покой…
Все хорошие, весёлые —
один я плохой.
1935 (?)
Сын
Только голос вечером услышал,
молодой, весёлый, золотой,
ошалелый, выбежал — не вышел —
побежал за песенкой за той.
Тосковать, любимая, не стану —
до чего кокетливая ты,
босоногая, по сарафану
красным нарисованы цветы.
Я и сам одетый был фасонно:
галифе парадные, ремни,
я начистил сапоги до звона,
новые, шевровые они.
Ну, гуляли… Ну, поговорили, —
по реке темнее и темней, —
и уху на первое варили
мы из краснопёрых окуней.
Я от вас, товарищей, не скрою:
нет вкусней по родине по всей
жаренных в сметане — на второе —
неуклюжих, пышных карасей.
Я тогда у этого привала
подарил на платье кумачу.
И на третье так поцеловала —
никаких компотов не хочу.
Остальное молодым известно,
это было ночью, на реке,
птицы говорили интересно
на своём забавном языке.
Скоро он заплачет, милый, звонко,
падая в пушистую траву.
Будет он похожий на сомёнка,
я его Семёном назову.
Попрошу чужим не прикасаться,
побраню его и похвалю,
выращу здорового красавца,
в лётчики его определю.
Постарею, может, поседею,
упаду в тяжёлый, вечный сон,
но надежду всё-таки имею,
что меня не позабудет он.
1935