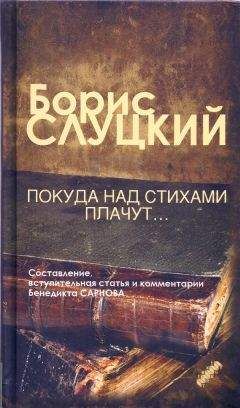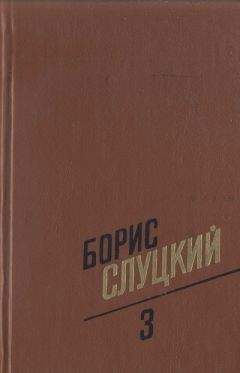Борис Слуцкий - Лошади в океане
«Когда мы вернулись с войны…»
Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.
Господствовала прямота,
и вскользь сообщалося людям,
что заняты ваши места
и освобождать их не будем,
а звания ваши, и чин,
и все ордена, и медали,
конечно, за дело вам дали.
Все это касалось мужчин.
Но в мир не допущен мужской,
к обужам его и одежам,
я слабою женской рукой
обласкан был и обнадежен.
Я вдруг ощущал на себе
то черный, то синий, то серый,
смотревший с надеждой и верой
взор.
И перемену судьбе
пророчествовали и гласили
не опыт мой и не закон,
а взгляд,
и один только он —
то карий, то серый, то синий.
Они поднимали с земли,
они к небесам увлекали,
и выжить они помогли —
то синий, то серый, то карий.
Как меня не приняли на работу
Очень долго прения длились:
Два, а может быть, три часа.
Голоса обо мне разделились.
Не сошлись на мне голоса.
Седоусая секретарша,
Лет шестидесяти и старше,
Вышла, ручками развела,
Очень ясно понять дала:
Не понравился, не показался —
В общем, не подошел, не дорос.
Я стоял, как будто касался
Не меня
весь этот вопрос.
Я сказал «спасибо» и вышел.
Даже дверью хлопать не стал.
И на улицу Горького вышел.
И почувствовал, как устал.
Так учителем географии
(Лучше в городе, можно в район)
Я не стал. И в мою биографию
Этот год иначе внесен.
Так не взяли меня на работу.
И я взял ее на себя.
Всю неволю свою, всю охоту
На хореи и ямбы рубя.
На анапесты, амфибрахии,
На свободный и белый стих.
А в учители географии
Набирают совсем других.
Знакомство с незнакомыми женщинами
Выполнив свой ежедневный урок —
тридцать плюс минус десять строк,
это примерно полубаллада, —
я приходил в состояние лада,
строя и мира с самим собой.
Я был настолько доволен судьбой,
что — к тому времени вечерело —
в центр уезжал приниматься за дело.
Улицы Горького южную часть
мерил ногами я, мчась и мечась.
Улицу Горького после войны
вы, поднатужась, представить должны.
Было там людно, и было там стадно.
Было там чудно бродить неустанно,
всю ее вечером поздним пройти,
женщин разглядывая по пути,
женщин разглядывая и витрины.
Молодость! Ты ведь большие смотрины!
Мой аналитический ум,
пара штиблет и трофейный костюм,
ног молодых беспардонная резвость,
вечер свободный, трофейная дерзость —
много Амур мне одалживал стрел!
Женщинам прямо в глаза я смотрел.
И подходил. Говорил: — Разрешите!
В дружбе нуждаетесь вы и в защите.
Вечер желаете вы провести?
Вы разрешите мне с вами — пойти!
Был я почти что всегда отшиваем.
Взглядом презрительным был обдаваем
и критикуем по части манер.
Был даже выкрик: — Милиционер!
Внешность была у меня выше средней.
Среднего ниже были дела.
Я отшивался без трений и прений.
Вновь пришивался: была не была!
Чем мы, поэты, всегда обладаем,
если и не обладаем ничем?
Хоть не читал я стихи никогда им —
совестно, думал, а также — зачем? —
что-то иное во мне находили
и не всегда от меня отходили.
Некоторые, накуражившись всласть,
годы спустя говорили мне мило:
чем же в тот вечер я увлеклась?
Что же такое в вас все-таки было?
Было ли, не было ли ничего,
Кроме отчаянности или напора, —
задним числом не затею я спора
после того, что было всего.
Матери спрашивали дочерей:
— Кто он? Рассказывай поскорей.
Кто он? — Никто. — Где живет он? — Нигде.
— Где он работает? — Тоже нигде. —
Матери всплескивали руками.
Матери думали: быть ей в беде —
и объясняли обиняками,
что это значит: никто и нигде.
Вынес из тех я вечерних блужданий
несколько неподдельных страданий.
Был я у бездны не раз на краю,
уничтожаясь, пылая, сгорая,
да и сейчас я иных узнаю,
где-нибудь встретившись, и — обмираю.
«Своим стильком плетения словес…»
Своим стильком плетения словес
не очарован я, не околдован.
Зато он гож, чтобы подать совет,
который будет точным и толковым.
Как к медсестринской гимнастерке брошка,
метафора к моей строке нейдет.
Любитель порезвиться понарошку
особого профиту не найдет.
Но все-таки высказываю кое-что,
чем отличились наши времена.
В моем стихе,
как на больничной коечке,
к примеру,
долго корчилась война.
О ней поют, конечно, тенорами,
но и басами хриплыми поют,
я — слово, а не пропуск в телеграмме,
которую грядущему дают.
«А я не отвернулся от народа…»
А я не отвернулся от народа,
С которым вместе
голодал и стыл.
Ругал баланду,
Обсуждал природу,
Хвалил
далекий, словно звезды,
тыл.
Когда
годами делишь котелок
И вытираешь, а не моешь ложку —
Не помнишь про обиды.
Я бы мог.
А вот — не вспомню.
Разве так, немножко.
Не льстить ему,
Не ползать перед ним!
Я — часть его.
Он — больше, а не выше.
Я из него действительно не вышел.
Вошел в него —
И стал ему родным.
Баня
Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск,
как летом на реке.
Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которым
Я лично больше б доверял.
Там двое одноруких
спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
Исчеркали
война
и труд.
Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я
Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.
Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний
матрос
Лиловые татуировки
В наш сухопутный край
занес.
Там я, волнуясь и ликуя,
Читал,
забыв о кипятке:
«Мы не оставим мать родную!» —
У партизана на руке.
Там слышен визг и хохот женский
За деревянною стеной.
Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.
Там рассуждают о футболе.
Там
с поднятою головой
Несет портной свои мозоли,
Свои ожоги — горновой.
Там всяческих удобств — немножко
И много всяческой воды.
Там не с довольства, а с картошки
Иным раздуло животы.
Но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли
Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.
Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?
В той бане
парились иль нет?
Там два рубля любой билет.
«Которые историю творят…»
Которые историю творят,
они потом об этом не читают
и подвигом особым не считают,
а просто иногда поговорят.
Которые историю творят,
лишь изредка заглядывают в книги
про времена, про тернии, про сдвиги,
а просто иногда поговорят.
История, как речка через сеть,
прошла сквозь них. А что застряло?
Шрамы.
Свинца немногочисленные граммы.
Рубцы инфарктов и морщинок сечь.
История калится, словно в тигле,
и важно слушает пивной притихший зал:
«Я был. Я видел. (Редко: „Я сказал“),
Мы это совершили. Мы достигли».
«Ордена теперь никто не носит…»