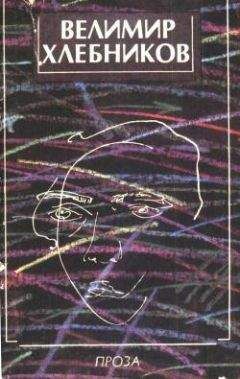Велимир Хлебников - Том 5. Проза, рассказы, сверхповести
Как сгибается в огне береста, так сгибалась бы я перед вашими взорами, братья. Я подслушала все изломы голосов незнакомых мне птиц и падение вниз чистой воды и все это передала бы в страстной песне! Я бы сковывала руки пожатьем и расковывала их и сплясала бы пляску перед пламенными бурей взглядами.
Брат! Брат, полюби меня!
– Что с тобой? Ты говоришь кому-то и улыбаешься. Это не я…
Так! так! ты просишь, чтобы я тебя полюбил? Разве я тебя обижаю?
– Обижаешь? Обижаешь! Разве я не красива? Разве я не прелестна? Зачем ты на меня не взглянул другими глазами, как будто т<игр> тебе брат? Смотри, смотри, что скрывают одежды? Поверь этим грудям, которые просят словами более звонкими, чем крик несчастья или восхищения. Вот!
– Что с тобою? Ты сходишь с ума? Что ты говоришь, сестра! Что с тобой?
– Я люблю тебя! Не веришь? Не веришь? Сердишься? Сердишься! Не сердись, прости меня, я тебя люблю. Ты, как небо перед молнией.
– Еще бы не сердиться! Чистая, как снег, – я всегда так думал о тебе, и вдруг слова змеи, ужален я ими в самое сердце. Зачем ты, как паук, прядешь какие-то сети. Знай – оба умрем и погибнем в них. Оставь это, забудь, сестра!
– Прости меня, брат, прости. Забудь, как будто этого дня не было. Прости меня.
Он все поет о каких-то двух солнцах, убитых предком. Будто они упали в море и погасли, а третье осталось, и всем стало легче жить. Разве могут быть три солнца? Но все-таки сказочно прекрасно зрелище того, как гибнет каменное солнце от легкого стрелка. Как шипело море! Сколько брызг летало во все стороны! Как брошенные головни, гасли в воде громадные солнца. Это было вот так (берет из костра головню и привешивает к березе, висящей над рекой; стреляет из лука, и головня падает в воду). Ночью это было бы еще восхитительнее. Но может ли солнце быть ночью? Почему не может: ведь голубые глаза любящего – это солнце днем, а влюбленные глаза черного цвета – солнце ночью. Может! А люди были таинственны и горды, как мой брат, которого не поймешь. А мы хитры и умны, как я.
Хорошо же. Злой! Увидишь! А если придет, пусть подумает, что я выстрелила в небо и на стреле взобралась до туч.
О, ручей, я иду к счастью. О, белки, я иду к счастью! Не задевайте о мои ноги, травки, не замедляйте счастья.
Дойду ли я так? Нет, нужно бежать до той поляны, где я поставлю жилье.
Не шуми, вода, так громко, я иду к счастью!
Заплетайтесь в мои ноги, цветы!
Нежьте и услаждайте слух, птахи!
О, если бы медведь помог мне!
О, если бы рысь принесла ветки!
Нет, сама я должна срубить шалаш, где буду сидеть одна, смеясь.
Вот и готово. Как быстро.
Не успела оглянуться.
Теперь положу берестяный черпак и черепа зверей. И оставлю кругом следы. Точно не первый день здесь живет.
Нет, лучше пусть цветы и травы будут нетронуты вокруг шалаша.
Здесь я встречу тебя, милый.
Ах, брат идет! Точно. Отвернусь от него и тело буду умывать.
Расстанемся надолго.
<1912>
«Чернея макушкой стриженой…»*
Чернея макушкой стриженой, пламенем желтым одетый, как римской холстиной с каймою широкой, быстро, военной походкой, к ступеням подходит седалища, где водопад был изменчив, лиясь из морской пасти снопом кудрей зеленых и белых, сине-зеленых и черно-желтых. Падал на них уже свет подходящего с стоном и с топотом юноши (грозны и быстры шаги).
Обе ладони смежив на темени овна кудрявого и двуглавого, ручкой служив<шего> для обоюдоострого, в землю воткнутого грубо меча, сидела, с испугом смотрела на быстро вошедшего та, о которой прекрасней молчать. Длинные руки из камня слонового токарь прекрасного рока высек и выточил для восхищенья и взоров. Цепь незабудок одну украшала. Темные взоры исполнены были ее красоты могучей и вопроса, и лютни молчащие вделаны были в престол.
Но конский череп был поднят на темя, как шлем.
С испугом спокойным смотрела она на вошедшего, и руку ее колебала чуть глазу заметная дрожь.
И после, щебетом нежным птицы, пропела, желая спросить вновь пришедшего.
– Устал ты? Не хочешь ли пить? Вот водопада струя вниз убегает, звеня, всех утоляя и утомляя. Властные жезлы и знаки державы в беге клокочут его. Сядь, отдохни и расскажи мне твою повесть. Надеюсь, она не страшна и среди спутников счастья – цветов свежих и чистых – будет ей место. Что же молчишь ты?
И вновь вопросила, уже с испугом и слезами в голосе:
– Что же молчишь ты? Скажи! Что ты стоишь неподвижим, глаз не подъемля. Пряхи, я вижу, искусные сделали эти одежды, на пламя могучее похожие более, чем капля на каплю. Бурно колеблет их ветер, ворвавшийся в окна через решетку. Как будто огонь твои ткани, но ведь обман он, а обман не сжигает поверхности кожи. Выбрал ты благовония странные. Смолы и травы пахнут не так. Так тлеет на углях мясо козленка и волос на жарких щипцах. И зачем синий дым ясно порочит небо прекрасное? Вот что ответь мне пришедший: не больно тебе? Иначе страшное я начинаю угадывать в приходе внезапном твоем. Что молчишь ты?
– Краткими будут слова мои, здесь восседающая. В границ<ах> они костра и золы. Многими реками ты не утолишь меня, примчался ведь я – и много правдиво тебе рассказали быстрые твои взоры души, лгать не умеющей. Но истины сердце в испуге бежит дыхания грозного, поверь. Здесь я стою. Хохоты рабских морей слышал я, сюда шествуя. Как ни несносны они, не от укусов комара костер плотно к плечам прильнул, как рубашка. И не жидкой рекой, а жестокой, железной, чьи прямей берега, чем лучи, и чье устье и море – сердце умершего, утолишь ты жажду мою. Сделай, если ты дочь милосердия, чтоб ей утолен был я раньше, чем ткани мои огневые не сделают пепла горы у ног, у ступеней твоих. Узнай же – горю я. Раньше, чем речь окончу свою, раньше, чем стану я пепла и масла смесью, глаза оскорбляющей. Из грез и из слез быстрый ручей – наша жизнь. В жидком звенящем навесе воды! То лишь промолвить хочу я: будешь жесточе ты многого, если не станешь суровою.
Растрогана, она ясно раскрыла глаза и ресницы свои чернодлинные и спросила его: «Неужели»?
– От плаща огневого многие ищут такого покоя. Сейчас вселенная – жемчужная раковина для жемчужины <моей> смерти. Ты новый звук, вошедший в ее слух. Крыло водяное объемлет тебя и уносит. Я старого лебедя шея. Так я спасу<сь> от страданий. Жизнь им имя, чело их носитель. Время страданий – <мой> век. Я иду в море вод твоих, земной пепел бросая, как странник свой посох <здесь>, у ворот. О, пещера зеркального льда с ледяными мечами на потолке!
Остров когда-то ладью с лебедя шеей снаряжал, золотистых и нежных лес парусов. Младенца лицо было на каждом. И много гребцов поставил в ладью. Багрец нежно-красный золотистым отливом наполнял холсты, как перь<я> бабур<ки>. Для ветров привешены были прекрасные лютни. Звенели и пели. Младенца в далекую сушу то судно везло. Что ж? С морскими разбойниками встреча, пожар, и чума, и насад чумный труп и чумных ряд гребцов в пристань дальнюю привез. Сто чумных гребцов, <упавших> на лавки, привез вольный ветер в ту пристань.
То же и жизнь. Таков был младенец.
Но что это? Белый, стеклянный мчится и бьется ручей? И темная, синяя с белым горошком рубашка лежит меж вод и зеленых осок. Здесь кто-то купался. Но куда он уплыл?
Но там, между черных глыб берегов, золотая течет, слышу я, лава, камни ворочая глухо и в ней снег – белый череп и пепел прозрачный и черный прежних волос и вихров. <Вот что> остается от жизни. Всегда? и зачем? Эта [рубашка от мальчика] темная, синяя. Так ли лежит на нем много позора, чтоб искупить себя в этой купели огня золотого? Но все же, цветущий, вновь он всплывает. И с длинной лютнею чайка летает: «воскресни» поет она в злате пловцу.
Желтый косматый король с грозной гривой вышел из рощи его растерзать и лапу кладет на одежды и смотрит устало, наморщив чело и глаза.
Вон двое: старец и дева – из камня оба. Медленно в кожу из камня [тайный в средине], явный концами вонзается нож, каменный нож, и медленно старец, главой на плечо увядая, целует безмолвно пролитую кровь. Вон в черных потемках белый слепец здесь проходит строгий, прям, как доска, и белые струны белого камня носит в руке. Слышите голос высокий? Знаю я, здесь мой обещанный рай. Здесь я страсти предвижу в прекрасных размерах. Их кожа из красок зари, а кость заменяет им воздух. Их взоры-свирели огней, воздушные лютни. Их голос был небом в раздумье, зарей – в час дружбы и громом – в час гнева. Частями власти они здесь живут, ветки единой листами, частыми, длинными. Силам найду и созвучие в милом. Истлели в размерах тех, точно в стенах стеклянного гроба, ненависть, зависть и злоба. Белые нити поют. Шествует белый слепец. Свеча одиноко пылает, тихий покой освещая.
И с свистом и стоном души, не нашедшей приюта, летавшая долго, мертвая голова падает сверху. Светоч горевший угас. Во тьме ледяные чертоги.