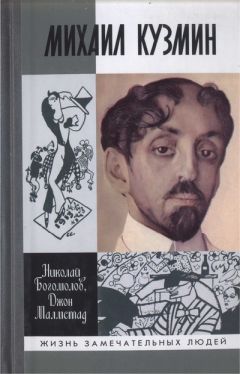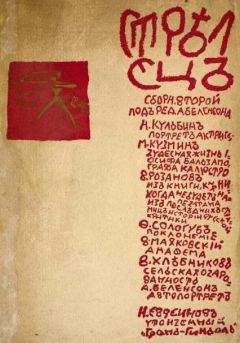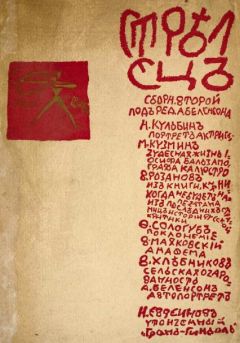Михаил Кузмин - Стихотворения
6 апреля 1929 года он записал в дневнике: «Почему я никогда в дневнике не касаюсь двух-трех главнейших пунктов моей теперешней жизни? Они всегда, как я теперь вижу, были, мне даже видится их развитие скачками, многое сделалось из прошлого понятным. Себе я превосходно даю отчет, и Юр<кун> даже догадывается. Егунов прав, что это религия. М<ожет> б<ыть>, безумие. Но нет. Тут огромное целомудрие и потусторонняя логика. Не пишу, потому что, хотя и ясно осознаю, в формулировке это не нуждается, сам я этого, разумеется, никогда не забуду, раз я этим живу, а и другим будет открыто, не в виде рассуждений, а воздействия из всех моих вещей. <…> Без этих двух вещей дневник делается как бы сухим и бессердечным перечнем мелких фактов, оживляемых (для меня) только сущностью. А она, присутствуя незримо, проявляется для постороннего взгляда контрабандой, в виде непонятных ассоциаций, неожидан<ного> эпитета и т. п. Все очень не неожиданно и не капризно».
Однозначно определить, что здесь имел в виду Кузмин, кроме прямо названной религии, не так уж просто. Но совершенно очевидно одно: он явственно чувствовал, что все делаемое им определяется единством собственной личности, не подчинившейся обстоятельствам даже столь трудной жизни, какой она стала в двадцатые — тридцатые годы, когда до минимума сократились издания его сочинений: оригинальную его прозу прекратили печатать в первой половине двадцатых, после «Форели» не вышло ни одной книги стихов, да и отдельно напечатанные стихотворения можно буквально по пальцам пересчитать, критические статьи также не находили применения, Кузмина постепенно вытесняли со страниц «Вечерней красной газеты», последнего издания, где он время от времени еще рецензировал спектакли и концерты… Доступными оставались лишь переводы (Гомер, Шекспир, Гете, Байрон — и вплоть до Брехта) да сотрудничество с театрами, так же постепенно сходившее на нет.
Судя по рассказам, вкусы Кузмина в музыке и в русской литературе не особенно менялись, но о многом говорят те явления иностранной литературы, за которыми он пристально следил. Он был наслышан о Джойсе еще в двадцатые годы (об этом есть запись в дневнике) и наверняка читал его хотя бы в переводе Валентина Стенича в начале тридцатых; «В поисках утраченного времени» Пруста не слишком заинтересовало его в русском варианте, предложенном А. А. Франковским, но обращение к французскому оригиналу несколько исправило впечатление. Большим вниманием пользовался Г. Мейринк да и вообще вся литература, связанная с немецким экспрессионизмом. Говорят, что нравились ему первые переведенные на русский вещи Хемингуэя[68].
Остается вопросом, знал ли он сюрреализм непосредственно или был только наслышан о нем, как и о дадаизме (при том пристальном интересе, который Кузмин испытывал к западной литературе, многочисленные статьи об этих течениях не могли, конечно, не попасть в поле его зрения), но известно по воспоминаниям, что аналогичные поиски русских авторов его весьма интересовали. Дневник фиксирует, что среди его знакомых были А. Введенский и Д. Хармс, особенно регулярно посещал его и читал свои произведения первый. Однако еще существеннее, что такие прозаические вещи Кузмина, как «Печка в бане» и «Пять разговоров и один случай», совершенно определенно предвосхищают хармсовскую прозу тридцатых годов.
Пристрастия, как кажется, очень показательны.
Увы, мы не знаем, что Кузмин писал в тридцатые годы. Известно, что был в значительной степени (если не полностью) написан роман о Вергилии, — но сохранились только две первые главы, опубликованные еще в 1922 году. Лишь в отрывках известен стихотворный цикл «Тристан»[69]. Вовсе не сохранились переводы шекспировских сонетов, которые, как сообщают современники, были завершены. Вполне можно предположить, что было и нечто еще, в том числе рукописи стихотворений двадцатых годов, зафиксированных перечнями, а там — кто знает…
Обратимся к последнему сборнику стихов Кузмина «форель разбивает лед» и попытаемся ответить на вопрос о том, что определяет ядро, основу личности Кузмина.
Книга состоит из шести больших разделов, которые в зависимости от установки исследователей рассматриваются то как поэмы, то как стихотворные циклы. Сразу нужно сказать, что, по нашему глубокому убеждению, есть все основания считать эти разделы именно циклами, в известной степени подобными тем, что были характерны для первых кузминских сборников (типичные образцы — «Любовь этого лета», «Прерванная повесть», «Ракеты» и пр.). Об этом свидетельствуют прежде всего регулярная смена метра и разнообразие стиховых форм, тогда как для поэм Кузмина («Всадник», «Чужая поэма», не вошедшее в наше издание «Николино житие») характерно метрическое и строфическое единообразие. Далее существуют все же некие смысловые разрывы, преодолеваемые своеобразной символикой чисел, как объединительным началом (двенадцать ударов часов в новогоднюю ночь, соответствующие двенадцати месяцам; семь створок веера; семь дней недели с соответствующими им планетами и богами и пр.). Только в «Лазаре» сюжетная основа прослеживается вполне последовательно, однако следует отметить, что для понимания аллегорического ее смысла необходима постоянная проекция событий цикла на Евангелие, чего до сих пор у Кузмина не бывало.
Единственная аналогия, которая могла бы быть подыскана к циклам «Форели» в поэмах Кузмина — «неоконченный роман в отрывках» «Новый Ролла», который, однако, также весьма значительно отличается от любого звена последней книги прежде всего отсутствием внутренней завершенности своей идеи, тогда как в «Форели» все части безупречно приводятся к финалу именно своей композицией.
Итак, перед нами книга, состоящая из шести не связанных между собою непосредственно циклов, каждый из которых обладает собственным внутренним единством, как обладает единством и каждое из отдельных стихотворений, составляющих эти циклы. Но и вся книга в целом является единой; в ней, на наш взгляд, отчетливо прослеживаются те принципы художественного мышления Кузмина, которые сделали его одним из безусловно значительнейших русских поэтов двадцатого века.
В первом цикле, так и называющемся — «Форель разбивает лед» (характерно, что и в жизни и в творчестве Кузмина мотив рыбы, бьющейся об лед и пробивающейся на волю, повторяется не раз), — организующим началом является годовой цикл, и отдельные эпизоды связаны между собой не только общностью героев, но и прерывисто развивающимся любовным сюжетом, переносимым из современности в мир мифологизированной кинематографичности («Второй удар»), балладного мистицизма («Шестой удар»), а более всего — воспоминаний из собственного прошлого. И через эти воспоминания и отвлечения в другие сферы человеческого бытия, через вписанную в современность фантастику проходит один сквозной мотив:
…я верю,
Что лед разбить возможно для форели,
Когда она упорна. Вот и все.
Очевидные любовные ассоциации этого образа (от глубинно мифологических до самых поверхностных) не могут заслонить и иного, вполне ясного смысла: упорное стремление к цели через все преграды и препятствия, даже кажущиеся непреодолимыми. В любом случае им суждено пасть, если настойчивость не будет ослабевать, и здесь не будут преградой ни чужая любовь, ни разлука, ни вмешательство потусторонних сил, ни соблазны легкой и веселой жизни, ни воспоминания о трагическом прошлом. «Ангел превращений снова здесь», новый год несет с собою победное завершение поединка форели со льдом:
То моя форель последний
Разбивает звонко лед.
Вывод не бог весть какой оригинальности и сложности, но для того, чтобы к нему прийти, понадобилось миновать массу искушений и препятствий, в любой момент грозивших тем, что мир так и останется прежним, двойник — одиночкой, Гринок — далеким шотландским городком, и, уж конечно, «трезвый день разгонит все химеры». Искушение и соблазн, преодолеваемые чувством истинной любви, — вот то, что позволяет человеку сохранить свою индивидуальность.
В «Панораме с выносками» серия нравоучительных сценок и «картинок», представляющих печальные и радостные события жизни, ее приметы и подробности (уединение, питающее в старообрядческом скиту страсти; рождаемые темными чувствами убийства, отравления, кражи; загадочная вещица, хранящая на себе прикосновения самых верных друзей, разделенных непреодолимым пространством[70]), существует параллельно с «выносками», выходами за пределы этой нравоучительности, которые включают в себя и мифологические представления (Гермес-Ганимед — Зевс-орел), и таинственные религиозные мотивы, и, наконец, как результат всего, — летящий пароход, бесконечный простор, ветер, чувство окончательного расставания с мелькающими людьми и пейзажами, освящаемое присутствием «брата» (не исключено, что этот «брат» имеет отношение к мотиву «братства», «двойничества» из первого цикла). Соседство панорамы и действительности, ощущение их постоянного взаимодействия, связи искусства и жизни порождают чувство сладостного опустошения, возникающего при расставании с чем-то дорогим.