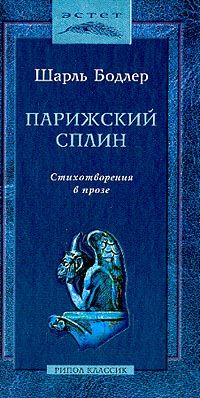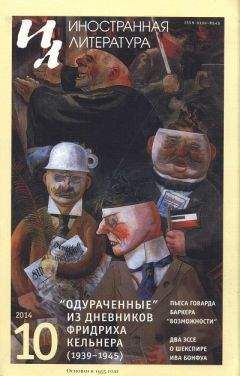Шарль Бодлер - Парижский сплин. Стихотворения в прозе
Другой, который последние несколько секунд не слушал рассказ своего товарища и необычайно пристальным взглядом следил за какой-то одной точкой в небе, вдруг воскликнул: «Посмотрите, посмотрите вон туда!.. Вы видите Его? Он сидит на том маленьком одиноком облачке, маленьком облачке цвета пламени, которое так медленно движется. И Он сам, кажется, Он тоже на нас смотрит!»
— Но кто — «он»? — спросили остальные.
— Бог, — ответил тот голосом, в котором звучала непоколебимая убежденность. — Ах! вот Он уже далеко; еще чуть-чуть, и Его будет вовсе не видно. Наверное, Он путешествует, чтобы посмотреть, что творится во всех странах. Смотрите, вот сейчас Он минует вереницу деревьев, почти у самого горизонта… а теперь Он спускается позади колокольни… Ах! я Его больше не вижу! — И ребенок еще долго смотрел в ту сторону, не отрывая глаз от линии, разделяющей небо и землю, взглядом, полным необъяснимого восторга и сожаления.
— Да он просто глуп, со своим милым Богом, которого никто не видит, кроме него! — в свою очередь, воскликнул третий, все маленькое существо которого лучилось невероятным оживлением и жизненной энергией. — Вот я вам сейчас расскажу, как со мной приключилось кое-что, чего с вами никогда не случалось и что будет поинтереснее вашего театра и ваших облаков. Несколько дней назад родители взяли меня с собой в поездку, и из-за того, что в гостинице, где мы остановились, не хватило кроватей для нас всех, решено было, что я буду спать в одной постели с моей няней. — Тут он привлек своих друзей поближе к себе и заговорил, понизив голос: — Право же, это было очень необычно — лежать в кровати не одному, а со своей няней, в полной темноте. Я не спал и, когда она заснула, начал развлекаться, проводя ладонью по ее рукам, шее и плечам. Руки и шея были у нее гораздо мощнее, чем у других женщин, а кожа на них такая нежная и гладкая, как почтовая или шелковая бумага. Это доставляло мне такое удовольствие, что я был бы рад продолжать его еще долго, если бы не испугался — сначала того, что разбужу ее, а потом сам не знаю чего. После этого я зарылся лицом в ее волосы, которые разметались по спине, густые, словно лошадиная грива, и они пахли так же хорошо, как цветы в саду в этот час, можете мне поверить. Когда-нибудь при случае попробуйте сделать то же, что и я, и вы сами увидите!
Пока юный автор этого необычного откровения вел свой рассказ, его глаза оставались широко раскрытыми, словно от изумления перед тем, что он все еще продолжал испытывать, и лучи заходящего солнца, пронизывая его растрепанные светлые локоны, вспыхивали в них, подобно сернистому ореолу страсти. Нетрудно было догадаться, что уж он-то не станет попусту тратить свою жизнь на поиски Божества среди облаков и зачастую будет находить его в ином.
Наконец заговорил четвертый: «Вы знаете, что дома мне совсем нечем развлекаться; меня никогда не водили на спектакль; мой опекун слишком скуп; Богу нет дела до меня и моей тоски; и у меня нет красивой няни, чтобы нежиться с ней. Мне часто казалось, что мое счастье в том, чтобы идти куда глаза глядят, сам не зная куда, не доставляя никому хлопот, и каждый раз попадать в незнакомую страну. Мне еще никогда не было хорошо, где бы я ни оказывался, и я все время думаю, что мне было бы лучше в каком-то другом месте, не там, где я сейчас. Вот послушайте! на недавней ярмарке в соседней деревне я увидел троих людей, которые живут той самой жизнью, какой хотел бы жить и я. Вы их даже не заметили, потому что вы другие. Они были высокие, темнокожие и очень гордые, несмотря на свои лохмотья, и, судя по их виду, они привыкли быть сами по себе. Их большие темные глаза сразу же воспламенялись, когда они начинали играть музыку; музыку столь восхитительную, что она вызывала желание то пуститься в пляс, то заплакать, а порою сделать и то и другое разом, и казалось, что, если будешь слушать ее слишком долго, тебя охватит безумие. Один из них, водя смычком по струнам скрипки, словно хотел поведать свою печаль, а другой, заставляя молоточек прыгать по струнам цимбалов, подвешенных на ремне у него на шее, словно бы подшучивал над жалобами своего приятеля, тогда как третий время от времени резко встряхивал бубнами. Им настолько это нравилось, что они продолжали играть свою дикарскую музыку даже после того, как толпа вокруг них рассеялась. Наконец они собрали брошенную им мелочь, взвалили свои инструменты на спину и отправились в путь. Мне захотелось узнать, где они живут, и я долго шел за ними, до самого леса, и только тогда наконец догадался, что у них нет крыши над головой.
— Будем разбивать шатер? — спросил один.
— Это еще зачем? — отозвался другой. — Сегодня прекрасная ночь.
Третий говорил, считая выручку:
— Эти люди не чувствуют музыки, а их жены танцуют, как медведи. Слава богу, и месяца не пройдет, как мы будем в Австрии: тамошний народ гораздо веселее.
— Может быть, лучше нам отправиться в Испанию, потому что осень уже на носу; а там мы укроемся от дождей и будем промывать только наши глотки, — сказал один из двух других.
Как видите, я все запомнил. Потом каждый из них выпил по стаканчику спиртного, и они улеглись спать, повернувшись лицом к звездному небу. Меня обуревало желание попросить их взять меня с собой и научить играть на своих инструментах, но я не осмелился этого сделать, скорее всего, по той причине, что всегда трудно решиться на что-то, и еще я боялся, что меня поймают и вернут обратно».
Скучающий вид остальных троих детей заставил меня подумать, что этот малыш уже был непонят. Я пристально посмотрел на него; его взгляд и его лицо были отмечены какой-то преждевременной роковой печатью, которая обычно не пробуждает в людях симпатии, но, не знаю почему, я вдруг испытал это чувство, вплоть до того, что на мгновение вообразил довольно странную вещь — а именно: встречу с братом, о чьем существовании до сих пор не подозревал.
Солнце закатилось. Ночь торжественно вступила в свои права. Дети расстались, и каждый, не ведая о том, отправился волею случая и обстоятельств вершить свою судьбу, повергать в возмущение своих ближних и прокладывать дорогу к славе или к бесчестию.
XXXII. Тирс
Ференцу Листу
Что такое тирс? В духовном и поэтическом смысле — священный символ в руки жреца, прославляющего божество, служителем и провозвестником воли которого он является. Но в реальности это всего лишь палка, обычная палка, увитая хмелем и виноградом, крепкая, сухая и прямая. Вокруг нее, причудливо изгибаясь, резвятся и танцуют стебли и цветы, одни — змеящиеся и взбегающие ввысь, другие — склоненные, подобно колоколам или опрокинутым чашам. И словно бы какое-то необыкновенное сияние разливается от этого сплетения линий и красок, нежных и переливчатых. Не кажется ли, что эти изогнутая линия и спираль ухаживают за прямой и танцуют вокруг нее в немом восхищении? Не кажется ли, что эти тонкие венчики, эти поросли, опьяняющие своими красками и ароматами, исполняют мистическое фанданго вокруг ритуального посоха? И кто тот неосторожный смертный, который отважится судить, цветы ли и виноградные ветви созданы были ради жезла, или же сам он — лишь основа, позволяющая увидеть красоту виноградных ветвей и цветов? Тирс — это воплощение вашей удивительной двойственности, о могущественный и чтимый властитель, возлюбленный вакхант Красоты таинственной и страстной. Еще ни одна нимфа, приведенная в экстаз непобедимой силою Вакха, не потрясала тирсом над головами своих исступленных подруг с таким восторгом и самозабвеньем, с каким вы простираете свой гений над сердцами своих собратьев.
Жезл — это ваша воля, прямая, стойкая и нерушимая; цветы — это полет вашей фантазии, вьющейся вокруг нее; это присутствие женского начала, исполняющего вокруг мужского свои восхитительные пируэты. Прямая линия и арабеск, четкость и выразительность, твердость воли и гибкость речи, единство цели и многообразие средств, мощный и неповторимый сплав, что заключает в себе гений, — какой исследователь с ненавистною отвагой посмеет разделить и разлучить вас?
Дорогой Лист, сквозь туманы, реки и города, где рояли поют вам славу, а типографские станки печатают вашу мудрость, где бы вы ни находились — среди красот Вечного города или в туманном краю грез, что находит отраду у Гамбринуса, сочиняете ли песнь наслаждения или тяжкой скорби, или поверяете бумаге свои неясные раздумья, — певец вечной Радости и Тоски, философ, поэт, музыкант, приветствую вас в бессмертии!
XXXIII. Опьяняйтесь!
Всегда нужно быть пьяным. В этом все: это единственная задача. Чтобы не ощущать ужасный груз Времени, который давит нам на плечи и пригибает нас к земле, нужно опьяняться беспрестанно.
Чем? Вином, поэзией или истиной — чем угодно. Но опьяняйтесь!
И если порою, на ступеньках дворца, на траве у обочины, в мрачном одиночестве своей комнаты, вы почувствуете, пробудившись, что опьянение уже ослабло или исчезло, то спросите у ветра, у волны, у звезды, у птицы, у часов, у всего, что бежит, у всего, что стонет, у всего, что катится, у всего, что поет, у всего, что говорит, — спросите, который час; и ветер, и волна, и звезда, и птица, и часы ответят вам: «Время опьяняться! Для того чтобы не быть страждущим рабом Времени, опьяняйтесь; опьяняйтесь непрестанно! Вином, поэзией или истиной — чем угодно!»