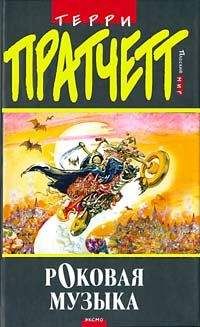Александр Межиров - Какая музыка была!
«Я замечаю в ней следы ума…»
Я замечаю в ней следы ума,
Жестокости и жесткости, и жалость,
И жалость, о которой и сама
Еще не знает или знает малость.
Я замечаю в ней черты отца
И собственные с ними вперемешку,
И, замечая, не стыжусь лица,
Скрывающего горькую усмешку.
Белая собака
Был снегопад восемь дней,
а потом и мороз наморозил.
Не разметешь, не протопчешь,
до соседней избы
не дойдешь.
Здесь не поможет ничем
не то что лопата —
бульдозер.
Весь Первояну-поселок
заставлен сугробами сплошь.
Разум и нищий инстинкт
пребывают извечно бок о бок,
И неизвестно чему
эта бездомная, слабая,
тощая белая сука верна.
Ради того, чтобы жить,
от избы и к избе
в небывалых сугробах,
В непроходимых снегах
протоптала
тропинку
она.
Tslun tschan
Этот остров Цлун-Чан – случайный транзит,
Потому что Калькуттский аэропорт
В связи с нелетной погодой закрыт
И желтым туманом к земле притерт.
Этот старый отель дело свое
Делать привык в темноте.
Эти девки внизу способны на все.
И на все способен портье.
Последний лыжник
Поднималась – неисчислима,
Как на зов боевой трубы,
Половина Третьего Рима
В полночь, в пятницу, по грибы.
Только все это не охота,
Не рыбалка и не лыжня,
Не грибы, а другое что-то,
Вроде знаменья – знамя дня.
Что-то вроде религий новых,
Что возникли на склоне лет
Без основ и на тех основах,
У которых основы нет.
Из «почтовых ящиков» лезли
Академики на ледник,
Не сиделось в казенном кресле
Грибникам, браконьерам, если
Сын Гермеса вселялся в них.
На природу людей манило,
Прямо в лоно вела стезя,
Но нисколько не изменило
То, чего изменить нельзя.
Вновь попрятались горожане
В распрекрасных своих домах,
Там, где 007 на экране,
Выполняющие заданье,
Полыхают в полупотьмах.
А в лесу, на лыжне проложенной
Частью воинской, в поворот
Лыжник старенький осторожно
Косным шагом войдет вот-вот.
Самый лишний из самых лишних,
На лыжне вполне призовой,
На солдатской, последний лыжник
Крестный путь завершает свой.
И в предмартовский день мороза,
В благодатные минус три,
Он сморкается. Кровь склероза
На лыжню летит из ноздри.
Троицкий
Самое последнее ремесло хвалю…
Григорий СковородаНад семью над холмами,
Возле медленных вод,
Помню, Троицкий в храме
Вместе с хором поет.
Петь и плакать – призванье.
И выводит он стих,
А потом в ресторане,
А потом и в пивных.
Начал это при нэпе,
Дань ему отдавал,
Молдаванские степи
Во хмелю воспевал,
Кем он был, этот старый
Человек из пивной,
Обладатель гитары
С дребезжащей струной.
Был хмельным и бездомным
Гражданином страны
Со своим, незаемным
Дребезжаньем струны.
И, зане дребезжало
В той струне волшебство,
Вашей зависти жала
Изъязвили его.
И не левый, не правый,
Не промежду, а вне,
Он для всякой расправы
Был удобен вполне.
(Никакой не любовник,
Уличенный тобой,
А удобный виновник
Для расправы любой.)
За свои за печали,
За грехи, за вины
Вы его уличали,
В чем себя бы должны.
Вы на нем вымещали
Все свои неправа,
А ему не прощали
Волшебство мастерства.
Не давали поблажки,
Позабыв «…не суди»,
Разрывали тельняшки
У себя на груди.
Страшным голосом ровным,
На палаческий лад,
Объявляли виновным:
Мол, во всем виноват.
В том, что гений не гений,
Но призванье имел,
А других прегрешений
Совершить не посмел.
Ваш палаческий метод
Бил его наповал.
Только Троицкий этот
Это все сознавал.
Мы стенаем и ропщем
От людского суда,
Ну, а Троицкий, в общем,
Не роптал никогда.
Бормотуха
1
(Нет ничего отвратней «Бормотухи»,
Поэмки этой. В ней все строчки ту́ги,
Все мысли площе плоского. И все ж
Ее не обойдешь, не обогнешь.
В ней слы́шна неподдельная обида
И за Псалтырь и за царя Давида,
А ежели она и не слышна,
То в этом виновата тишина.
Любой народ – народ не без урода…
Но целиком… На уровне народа…
Что говорить об этом… А толпа
На уровне толпы – всегда жестока, —
Готова растоптать ее стопа
Не только ясновидца и пророка.
Ты – из толпы. И спросится – с тебя…)
2
Плацкартный… Бесплацкартный… на поминки…
И на крестины… и за колбасой…
И даже просто так… и без запинки
Стучат колеса cредней полосой.
И по лимиту… или без лимита…
И даже просто так… невпроворот
Народу… и случайно приоткрыта
Дверь в зимний тамбур… там любой народ…
3
Когда религиозная идея,
Которую никто не опроверг,
Устала, стали, о Христе радея,
Низы элиты подниматься вверх.
Не из народа, из низов элиты
Исчадье розни и возни ползло,
Когда из грязи в князи сановиты,
Низы элиты выявляли зло.
Великие традиции оплакав,
Из глубины идущие веков,
Сперва безгрешней были, чем Аксаков,
Киреевские или Хомяков.
Все было так. Но не прошло и году,
У логики вещей на поводу,
Единственной реальности в угоду
В Охотном оказалися ряду.
Через плечо заглядывая в книжки,
Разлитьем[4] озаботилися вдруг,
Леонтьева читая понаслышке
И Розанова из десятых рук.
4
Когда в когда-то новые районы
Пародия на старые салоны
Пришла в почти что старые дома
И густо поразвесила иконы
Почти что византийского письма,—
В прихожих, где дубленки из Канады,
Заполыхали золотом оклады,
Не по наследству, скромному весьма,
Полученные вдруг – а задарма,
Они из ризниц, может быть, последних,
Висят не в спальнях даже, а в передних
Иконы эти, эти образа.
Там лейб-маляр, плутишка лупоглазый,
Бросал на холст валютные размазы,
В один сеанс писал хозяйке хазы
Почти что византийские глаза.
И, помавая шеей лебединой,
В другом салоне и в другой гостиной
Вприпляс рыдала – глаз не отвести,
Зовущая Цветаеву Мариной,
Почти в опале и почти в чести.
5
И превратились похороны в праздник,
Поминки перешли в банкетный зал,
И не Преображенец, а лабазник
Салоны политесу обучал.
Пред ним салоны эти на колени
Вповал валились, грызли прах земной,
В каком-то модернистском умиленье
Какой-то модернистской стариной.
Радели о Христе. Однако вскоре
Перуна Иисусу предпочли,
И с четырьмя Евангельями в споре,
До Индии додумались почти.
Кто увлечен арийством, кто шаманством, —
Кто в том, кто в этом прозревает суть, —
Лишь только б разминуться с христианством
И два тысячелетья зачеркнуть.
Как допустить, что плоть Его оттуда,
И что Псалтыри протянул Давид
Оттуда, и не верящая в чудо
Перед Святою Троицей стоит.
А смысл единый этого раденья,
Сулящий только свару и возню,
В звериной жажде самоутвержденья,
В которой, прежде всех, себя виню.
А если я и вправду заикаюсь,
Как Моисей, то вовсе отыми
Дар речи, ибо не пред Богом каюсь,
А только перед грешными людьми.
И прежде всех, виновен в полной мере,
Ах, люди-звери, вместе с вами я…
Ах, не сужу… У приоткрытой двери
Уже стоит Всевышний Судия.
И по лимиту… или без лимита…
И даже просто так… невпроворот
Народу… и случайно приоткрыта
Дверь в зимний тамбур… там любой народ…
Командировка… срочное заданье…
Уют купейный, чаем знаменит…
Как вдруг, по ходу поезда, в стакане
Казенным звоном ложечка звенит…
6
Как вдруг на узкой полке в темноте
Я усмехнулся: что мне толки те…
7
Ну что теперь поделаешь?.. Судьба…
И время спать, умерить беспокойство,
На несколько часов стереть со лба
Отметину двоякого изгойства.
О двух народах сон, о двух изгоях,
Печатью мессианства в свой черед
Отмеченных историей, из коих
Клейма ни тот ни этот не сотрет.
Они всегда, как в зеркале, друг в друге
Отражены. И друг от друга прочь
Бегут. И возвращаются в испуге,
Которого не в силах превозмочь.
Единые и в святости и в свинстве,
Не могут друг без друга там и тут,
И в непреодолимом двуединстве
Друг друга прославляют и клянут.
«Лебяжий переулок мой…»