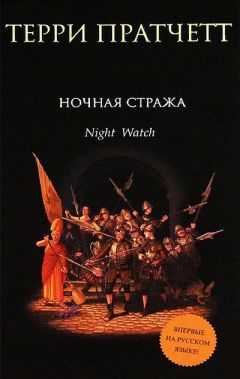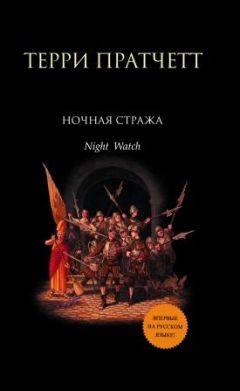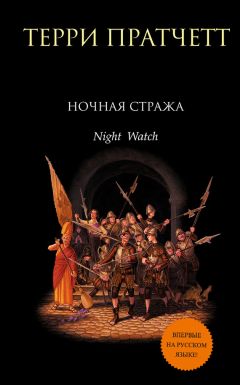Аля Кудряшева - Открыто: Стихотворения
Есть люди, которые пишут такое прозрачное, как горное озеро с узкими берегами. Они сочиняют его и тут же прячут, чтобы никто, не дай бог, не топтал ногами, оно настолько тонкое, незаметное, как платье у короля, только настоящее, залетное, неземное, залетнее, чем-то насквозь заоблачным нас поящее.
Есть женщины, которые вьплядят столь прекрасными, что даже стыдно дышать с ними тем же воздухом, они на тебя посмотрят - ну только раз, на миг - и можно счастливым сдохнуть, и каждый вот сдыхал, они такие легкие, незнакомые, одновременно слабенькие и сильные - вот, кажется, только что ведь поил молоком ее, кормил с ладошки дольками апельсинными, она смеялась, думала что-то важное, спросила что-то типа: «Посуду вымыл ведь?», потом взглянула нежно глазами ~ влажными - и ты от счастья слова не можешь вымолвить.
Есть время - оно для каждого очень разное, когда становишься частью чего-то общего, допустим где-то на громком звенящем празднике, а может, в ночь пробираясь по лесу ощупью, твои движенья становятся слишком гшавньгми, и руки неловко застыли, мелодий полные, и значит, здесь твоя нота одна, но главная, сыграй ее, ну, пожалуйста, так, чтоб поняли.
Есть тот, у которого с нами одни лишь хлопоты, одни заботы, бессонницы и лишения, ему и так тяжело, он сжимает лоб, а ты и я глядим и ждем какого-то утешения, и ждем дороги правильной и единственной, так, чтоб пойти и выйти куда захочется. Стоит - замучен, тощ совсем, неказист - спиной, наверно, стонет - когда же все это кончится. А что поделать - сам ведь все это выдумал, копайся теперь в их обидах, изменах, ревности, он оглянулся и извинился - выйду, мол, вернусь и отвечу каждому по потребностям.
Сидит на крыльце и смотрит с испугом на руки - зачем все это, оно ж никому не нравится, а небо уже над ним разожгло фонарики и дышит холодом - ох, артрит разыграется.
А в доме пахнет лекарством, горелой кашею, болит висок и сердце стучит все глуше и… И он опускает голову, нервно кашляет и хрипловатым голосом: «Я вас слушаю…»
* * *
В этом городе птичий полет шелестит быстролистыми кленами,
В этом городе море поет, тычет в пристань губами зелеными,
Но весна не открытий полна - открывашек, тоски да обманчиков.
Я больна, черт возьми, я больна, мне не снятся красивые мальчики,
Мне не снится горячая мгла, мне не снятся лесные красавицы,
Мне - луна, тяжела и кругла, все в открытые руки бросается.
Я стою, растопырив глаза и раззявив ослабшие пальчики.
Я-то что, мне бы лучше назад, мне бы все-таки вечер и мальчики,
Или жить, или пить допьяна, мне б июль Будапешты с Варшавами,
Но луна тяжела и полна и щекочет боками шершав ыми…
И я не знаю, что стало вдруг,
Какой сломался рычаг,
Но есть лишь пара дрожащих рук -
И те от боли кричат.
Обратно время крутят года,
Мотают века за день,
И мне теперь уже никуда,
Замри, струну не задень.
Фонарь-аптека-остановись,
Я путаюсь в падежах,
Осталось только - ни шагу вниз
И заповедь - удержать.
И бьется в потных ладонях свет,
Полынный, горький на вкус,
И вот сейчас бы немножко вверх -
А я как раз отвлекусь,
И разбиваются в кровь слова,
Течет ручейком тоска,
Гудит горячая голова,
И нет ничего в руках.
Незваный ветер застыл в дверях,
Расширен ночной зрачок,
И значит, рукописи горят,
Которые не прочел.
А век за веки рванет - проснись,
Мол, время-то истекло,
Моя луна полетела вниз.
Рассвет. Простыня. Тепло.
И вы не верьте, не верьте мне,
Делите слова на два,
Пока еще не начнет темнеть,
Я даже вполне жива.
И ты звони, весели, шали,
Играй с открытым огнем,
Ведь я не знаю, случится ли
Проснуться будущим днем.
Дура. Пока живешь - значит, пока нормально.
Твой кареглазый еж щурится из кармана.
Все хорошо - к тому ж наша земля вращается,
Твой сероглазый муж осенью возвращается.
Тоже спасибо, для тех, кто в каске - выживу, дотяну
Плачет принцесса в забытой сказке: «Мама, хочу луну.»
Пыльный усталый загар на плечи - будто бы плащ - пажу.
Да, я готова. Включайте вечер. Может быть, удержу.
* * *
Никто меня не толкал, не бил меня по рукам,
изящно не намекал, и яда не лил в бокал.
Но дрогнул сквозняк в груди - исчезни, не навреди,
мне просто стало понятно, что мне пора уходить.
Все те же сидят, едят, глазами в глаза глядят,
за всеми вокруг следят, басами в ушах гудят.
А я взгляну на луну, оставшимся подмигну
и серой прозрачной змейкой за темный порог скользну.
И вот за спиной мешок, дорога гладка, как шелк,
и если идти, не думая, то даже и хорошо.
Ни добрых, ни злых вестей, и можно под нос свистеть,
луна разделяет небо на семь золотых частей.
Я левой босой ногой ступаю на путь благой,
а правой босой ногой чешу свой живот нагой.
Не тронет меня беда, иду я по городам,
и если хотите счастья, то я вам его продам.
И день погоняет днем, и едет другой на нем,
и солнце луну меняет горячим своим огнем.
А я себе все бреду, бреду на свою беду,
и если совсем печально - меняю на сны еду.
А нынче - ушла тоска, и боль ушла из виска,
по небу гуляет ветер и дымные облака.
Я глянул - к глазам рука: весна стоит у ларька
и держит большую чашку холодного молока.
Смеется щербатым ртом, пушистым трясет хвостом
и гладит ларек по стенке, как если б он был котом.
И плещутся тополя, и травы растут в полях,
лохматые жеребята по этим полям пылят.
Ну что, говорю, весна, привет, говорю, весна,
теперь мне малы все шапки и куртка совсем тесна.
Что делать теперь, скажи, ловить ребятню во ржи,
а может, найти принцессу и к ней поступить в пажи?
Она же хитрит, молчит, на ветках сидят грачи,
а сердце мое как будто на сковороде скворчит.
Конечно, зачем слова, раз кружится голова,
раз можно кричать и бегать, и всех вокруг целовать…
Какая уж там беда, какие мои года,
сердца - они бьются к счастью, сегодня и навсегда.
И сколько меня ни бей, ни ябедничай судьбе,
весна обнимает город, а я поспешу к тебе.
А может быть, ты ко мне, у нас еще сотни дней.
И змейки - узором тонким среди голубых камней.
* * *
Замылим, потом замолим,
в сонате одни бемоли,
в кабак ли сейчас, домой ли?
В шкафу пристанище моли,
соседка посуду моет,
художник рисует море,
всю жизнь он рисует море,
зелено-синее море, атласно-шютное море,
солено-горькое море.
Художник мешает краски,
зеленую с темно-красной,
вот так вот - почти прекрасно,
но все-таки так бесстрастно,
что даже немножко страшно.
Пельмени давно сгорели,
соседи шуруют дрелью,
ах, кто бы закрыл бы двери, звонок, я зайду в апреле,
вот здесь чуть-чуть акварелью…
Эх, кто бы принес еды бы?
Селедочные ряды бы,
петрушечные хвосты бы, под каменной серой глыбой
художник рисует рыбу.
Соседи за стенкой шутят,
у них несмешные шутки,
художнику не до шуток, он нежно кисточкой щуплой
рисует рыбе чешуйки.
Он чутко дрожит руками,
а рыба бьет плавниками,
считая всех дураками, плывет куда-то на камень
и молвит там по-шакальи:
Художник, в твоей квартире,
(четырнадцать на четыре)
Теперь поселилось море, солено-горькое море,
атласно-синее море.
Живи теперь в нем, не плакай,
грызи по утрам салаку,
ее заедай салатом, хшхи подводные клады,
не жалуйся на зарплату…
Художник башкою вертит -
вот верьте теперь, не верьте,
а в окнах июнем светит, какой-то гуляет ветер
и радостно скачут дети.
Он справится, он же сильный,
он мажет по рыбе синим
и капельку апельсинным, и сверху тоской трясинной,
и сверху листвой осинной.
И снова рисует море,
без рыбы рисует море,
квартирно-мелкое море море, атласно-плотное море,
солено-горькое море.
Такое страстное море, такое страшное море,
июньски-нежное море. Художник рисует море.
* * *
Залезть бы под одеяло, забраться под одеяло и жить там, под одеялом, пока из-под одеяла не выманит что-то злое, похожее на будильник.