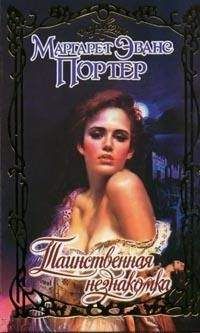Генрих Гейне - Стихотворения. Поэмы. Проза
Во время этой сцены signor padre ни на минуту не утратил равновесия духа: с деловитым спокойствием собрал он осколки с пола, отставил в сторону тарелки, оставшиеся в живых, и потом принес мне: суп с пармезаном, жаркое, жесткое и твердое, как немецкая верность, раков, красных, как любовь, зеленый, как надежда, шпинат с яйцами, а на десерт тушеный лук, вызвавший у меня слезы умиления.
— Это пустяки, такая уж манера у Пьетро, — сказал он, когда я с удивлением указал на кухню; и действительно, когда зачинщик ссоры удалился, казалось, вовсе ничего и не произошло: мать с дочерью опять сидели так же спокойно, пели и щипали кур.
Счет убедил меня в том, что signor padre тоже смыслит кое-что в ощипывании, и когда я, уплатив по счету, дал ему еще на чай, он чихнул от удовольствия так сильно, что обезьянка едва не свалилась со своего места. Затем я дружески кивнул в сторону кухни, получил дружеский кивок в ответ, и вскоре я вновь сидел в другом экипаже, быстро катил вниз по Ломбардской равнине и к вечеру достиг древнего, всемирно прославленного города Вероны.
Глава XXIIIПестрая сила новых впечатлений окружала меня в Триенте обаянием лишь сумеречным и смутным, подобным сказочному видению; в Вероне же она охватила меня словно лихорадочным сном, полным ярких красок, резко обозначенных форм, призрачных трубных звуков и отдаленного звона оружия. Тут попадались обветшалые дворцы, глядевшие на меня так пристально, словно хотели доверить мне какую-то старинную тайну; они робели днем перед назойливостью человека и просили меня вернуться к ним ночью. И все-таки, несмотря на шум толпы и неистовое солнце, лившее свои красные лучи, не одна старая потемневшая башня успела бросить мне несколько многозначительных слов; кое-где подслушал я и шепот разбитых колонн; а когда я всходил по невысокой лестнице, ведущей на Piazza de’ Signori,[123] камни поведали мне ужасную, кровавую историю, и я прочитал на углу слова: Scala Mazzanti.[124]
Верона, древний всемирно прославленный город, расположенный по обеим сторонам Эча, служил всегда как бы первой стоянкой на пути германских кочевых племен, покидавших свои холодные северные леса и переходивших Альпы, чтобы насладиться золотым солнечным сиянием прелестной Италии. Одни тянулись дальше к югу, другие находили и это место достаточно приятным и располагались здесь с уютом, как на родине, облекаясь в шелковые домашние одеяния и мирно проводя время среди цветов и кипарисов, пока новые пришельцы, еще не успевшие снять с себя стальных одежд, не являлись с севера и не вытесняли их; эта история часто повторялась и получила у историков название переселения народов. Бродя теперь по Вероне и ее окрестностям, всюду находишь причудливые следы той эпохи, так же как и следы более раннего и более позднего времени. О римлянах особенно напоминают амфитеатр и триумфальные ворота; о Теодорихе-Дитрихе Бернском{734}, которого еще поют и славят в легендах немцы, напоминают сказочные развалины нескольких византийских доготических зданий; сумасбродные башни напоминают короля Альбоина{735} и его свирепых лангобардов; овеянные легендами памятники напоминают о Карле Великом{736}, паладины которого изваяны у дверей собора с той франкской грубостью, какая их, несомненно, отличала в жизни, — и, когда глядишь на все это, начинает казаться, что весь город — большой постоялый двор народов; и как постояльцы гостиницы имеют обыкновение писать свои имена на стенах и окнах, так и здесь каждый народ оставил следы своего пребывания, часто, правда, в не слишком удобочитаемой форме, ибо многие немецкие племена не умели еще писать и должны были довольствоваться тем, что разрушали что-нибудь на память о себе; этого, впрочем, было вполне достаточно, так как развалины говорят красноречивее затейливых письмен. Варвары{737}, вступившие ныне в старую гостиницу, не замедлят оставить такие памятники своего милого пребывания, так как им недостает скульпторов и поэтов, чтобы удержаться в памяти человечества с помощью более мягких средств.
Я пробыл в Вероне только один день, непрестанно удивляясь никогда не виданному и вглядываясь то в старинные здания, то в людей, кишевших среди них с таинственным одушевлением, то, наконец, в божественно голубое небо, которое заключало все это как бы в драгоценную раму и превращало все в законченную картину. Странное, однако, чувство, когда сам торчишь посреди картины, которую только что рассматривал, когда тебе то и дело улыбаются на этой картине фигуры, особенно женские, что я с приятностью испытал на Piazza delle Erbe.[125] Это, в сущности, овощной рынок, а на нем — изобилие восхитительных женщин и девушек, с томными большеглазыми лицами, с чудными чарующими телами, обольстительно-желтыми, наивно-грязными, созданными скорее для ночи, чем для дня. Белые или черные покрывала, которые носят на голове горожанки, были так хитро перекинуты через грудь, что больше подчеркивали красивые формы, чем скрывали их. У девушек были шиньоны, приколотые одной или несколькими золотыми стрелами или же серебряной булавкой с наконечником в виде желудя. На крестьянках большей частью были маленькие соломенные шляпки в виде тарелок, прикрепленные с одной стороны к волосам кокетливыми цветами. Мужской наряд меньше отличался от нашего, и только громадные черные бакенбарды, пышно растущие из-под галстука, бросались в глаза мне, впервые увидевшему эту моду.
Но если пристально вглядишься в этих людей, мужчин и женщин, откроешь в их лицах и во всем их существе следы цивилизации, отличающейся от нашей тем, что она ведет начало не от средневекового варварства, а от римской эпохи, цивилизации, которая никогда не была вполне искоренена и лишь видоизменялась сообразно с характером разных хозяев страны. Цивилизация этих людей не отличается такой бьющей в глаза свежестью полировки, как у нас, где дубовые столы только вчера обтесаны и все еще пахнет лаком. Кажется, что этот человеческий поток на Piazza delle Erbe на протяжении веков постепенно менял только одежду и обороты речи, нравы же здесь мало изменились. Здания, окружающие эту площадь, по-видимому, были не в состоянии так легко угнаться за временем; от этого, однако, вид их не менее привлекателен, он чудесным образом трогает душу. Здесь расположены высокие дворцы в венецианско-ломбардском стиле, с бесчисленными балконами и смеющимися фресками; посредине возвышается единственный памятник — колонна, фонтан и каменная статуя святой; виднеется затейливо расписанный в красную и белую краску Подеста{738}, гордо вздымающийся за величественными стрельчатыми воротами; там замечаешь снова старую четырехугольную колокольню, на которой часовые стрелки и циферблат наполовину разрушены, так что похоже на то, что время само решило покончить с собой, — над всей площадью веет то романтическое очарование, которое так радостно сквозит в фантастических поэмах Людовико Ариосто{739} или Людовико Тика.
Близ площади находится дом, который считают дворцом Капулетти{740} благодаря шляпе, высеченной из камня на внутренних воротах. Теперь это грязный кабак для извозчиков и кучеров, и в качестве трактирной вывески над ним висит красная дырявая шляпа из жести. Невдалеке, в церкви, показывают капеллу, где, согласно преданию, была помолвлена несчастная влюбленная пара. Поэт охотно посещает такие места, хотя бы он и посмеивался сам над легковерием своего сердца. Я застал в этой капелле одинокую женщину, жалкое, поблекшее существо; после длительной молитвы и коленопреклонения она со вздохом поднялась, удивленно посмотрела на меня болезненным, тихим взглядом и, наконец, вышла, ковыляя, словно у нее были переломаны кости.
Гробницы Скалигеров{741} находятся тоже невдалеке от Piazza delle Erbe. Они так же поразительно вылеплены, как этот гордый род, и жаль, что они расположены в тесном углу, где должны жаться друг к другу, чтобы занять как можно меньше места и где наблюдателю даже трудно рассмотреть их как следует. Похоже на то, что здесь символически представлена историческая участь этого рода: он занимает столь же малый уголок в общей итальянской истории, но этот уголок заполнен блеском подвигов, пышностью нравов и величием гордого духа. Каковы они в истории, таковы и в памятниках — гордые железные рыцари на железных конях, и всех величественнее Кангранде — дядя и Мастино — племянник.
Глава XXIVО веронском амфитеатре говорили многие: там довольно места для размышлений, и нет таких размышлений, которые не вместились бы в круг этого знаменитого сооружения. Выстроен он именно в том строго деловитом стиле, красота которого — в законченной солидности и, подобно всем общественным римским зданиям, выражает дух, являющий не что иное, как дух самого Рима. А Рим? Найдется ли человек настолько невежественно-здоровый, что сердце его не затрепещет втайне при этом имени? Или, по крайней мере, не испытает традиционного потрясения мыслей? Что касается меня, то, признаюсь, я почувствовал больше тревоги, чем радости, при мысли, что скоро буду бродить по земле Древнего Рима. «Но ведь Древний Рим теперь мертв, — успокаивал я свою трепетную душу, — и тебе выпала отрадная участь обозревать, не подвергаясь опасности, его прекрасные останки». И все же вслед за тем возникали во мне опять фальстафовские размышления{742}: а если он не совсем еще мертв, а только прикидывается и восстанет опять — это было бы ужасно!