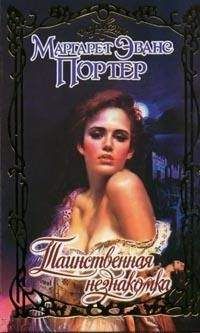Генрих Гейне - Стихотворения. Поэмы. Проза
Когда я вернулся в «Locanda dell’ Grande Europa»,[116] где заказал себе хороший pranzo,[117] у меня на душе и в самом деле было так тоскливо, что я не мог есть, а это говорит о многом. Я уселся у дверей соседней bottega,[118] освежился шербетом и заговорил сам с собой:
«Капризное сердце! Вот ты теперь в Италии — почему же ты не тириликаешь? Может быть, вместе с тобою пробрались в Италию твои старые немецкие скорби, маленькие змеи, глубоко затаившиеся в твоих недрах, и теперь они радуются, и именно их дружное ликование вызывает в груди ту романтическую боль, что так странно колет внутри, и дрожит, и шипит? И почему бы не порадоваться иной раз и старым скорбям? Ведь здесь, в Италии, так красиво, красивы здесь и самые страдания; в этих разрушенных мраморных дворцах вздохи звучат много романтичнее, чем в наших маленьких кирпичных домиках; под этими лавровыми деревьями плачется гораздо приятнее, чем под нашими угрюмыми колючими елями, и при взгляде на идеальные очертания облаков на голубом небе Италии мечтается сладостнее, чем под пепельно-серым, будничным немецким небом, где даже тучи корчат почтенные мещанские рожи и скучно позевывают сверху. Оставайтесь же в груди моей, скорби! Нигде не найти вам лучшего пристанища. Вы мне дороги и милы, никто лучше меня не сумеет вас холить и беречь, и, признаюсь вам, вы доставляете мне удовольствие. И вообще, что такое удовольствие? Удовольствие — не что иное, как приятнейшая скорбь».
Этот монолог мелодраматически сопровождала музыка, которая вначале, должно быть, не привлекла моего внимания. Она раздавалась перед входом в кофейню и собрала большую толпу. Странное это было трио: двое мужчин и девушка, игравшая на арфе. Один из мужчин, одетый по-зимнему в белый байковый сюртук, был коренастый малый с широким красным разбойничьим лицом; оно пылало в рамке черных волос и черной бороды, подобно угрожающей комете; между ног его зажат был громадный контрабас, по которому он так яростно водил смычком, словно повалил наземь в Абруццах бедного путешественника и торопится смычком перерезать ему горло; другой был длинный тощий старик, дряхлое тело которого болталось в изношенном черном сюртуке, а белые, как снег, волосы представляли очень жалкий контраст с его комическими куплетами и дурацкими прыжками. Грустно, когда старый человек, под гнетом нищеты, принужден продавать за деньги уважение, на которое он имеет право в силу своего возраста, и корчит из себя шута; насколько же грустнее, когда он проделывает это в присутствии или даже в обществе своего ребенка! А девушка была дочерью старого клоуна и аккомпанировала на своей арфе самым недостойным выходкам старика отца, а иногда отставляла арфу в сторону и начинала петь с ним комический дуэт: он изображал старого влюбленного щеголя, она — его молодую бойкую возлюбленную. При всем том девушка, казалось, еще не вышла из детского возраста, и похоже было, что из ребенка, еще не вступившего в девическую пору, сразу сделали женщину — и женщину отнюдь не добродетельную. Отсюда вялая блеклость и дрожь недовольства на красивом личике, гордые черты которого насмешливо отклоняли всякую попытку выразить сострадание; отсюда скрытая печаль в глазах, так вызывающе сверкавших из-под своих черных триумфальных арок; отсюда выражение глубокого страдания, составлявшее такой жуткий контраст с улыбкой прекрасных губ, с которых она слетала; отсюда болезненность нежной фигуры, обтянутой как можно плотнее коротеньким бледно-фиолетовым шелковым платьицем. При этом на поношенной соломенной шляпе развевались пестрые атласные ленты, а грудь украшена была весьма символически раскрытым розовым бутоном, который казался не естественно расцветшим, а скорее насильственно расправленным в своей зеленой оболочке. В то же время эта несчастная девушка, эта весна, уже овеянная губительным дыханием смерти, обладала неописуемой привлекательностью, грацией, сказывавшейся в каждом взгляде, в каждом движении, в каждом звуке и не изменявшей ей даже тогда, когда она, подавшись вперед всем своим тельцем, насмешливо-сладострастно приплясывала навстречу отцу, а он, столь же непристойным образом, выпятив живот, ковылял к ней. Чем наглее были ее движения, тем больше сострадания внушала она мне; когда же из ее груди вылетали нежные и чарующие звуки песни, как бы прося о прощении, змееныши в моей груди начинали ликовать и кусать себе хвосты от удовольствия. И роза, казалось мне, смотрела на меня умоляюще; раз я видел даже, как она задрожала, побледнела, но в тот же миг еще радостнее зазвенели в высоте девичьи трели, старик заблеял еще более влюбленно, красная кометоподобная рожа стала истязать свой контрабас с такой яростью, что тот начал издавать ужасающие комические звуки, и слушатели загоготали еще более бешено.
Глава XIXЭто была музыкальная пьеса в чисто итальянском вкусе, из какой-то оперы-буфф, того удивительного жанра, который дает полнейший простор юмору и где этот юмор может проявиться со всеми своими веселыми прыжками, безумной впечатлительностью, скорбным смехом и смертельной воодушевленностью, жадно влюбленной в жизнь. Это был стиль Россини, проявившийся с особой прелестью в «Севильском цирюльнике».
Хулители итальянской музыки, отказывающие и этому ее жанру в признании, не избегнут когда-нибудь заслуженного возмездия в аду и будут, возможно, осуждены не слушать целую вечность ничего, кроме фуг Себастьяна Баха. Жаль мне многих моих коллег, например Релльштаба{723}, которого также не минует это проклятие, если он перед смертью не обратится, к Россини. Россини, divino maestro,[119] солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру! Прости моих бедных соотечественников, поносящих тебя на писчей и промокательной бумаге! Зато я восхищаюсь твоими золотыми тонами, звездами твоих мелодий, твоими искрящимися мотыльковыми грезами, так любовно порхающими надо мной и целующими мое сердце устами граций. Divino maestro, прости моих бедных соотечественников, которые не видят твоей глубины, потому что ты прикрыл ее розами и кажешься недостаточно глубокомысленным и солидным, ибо ты порхаешь так легко, с таким божественным размахом крыл! Правда, чтобы любить нынешнюю итальянскую музыку и, любя, понимать ее, надо иметь перед глазами самый народ, его небо, его характер, выражение лиц, его страдания и радости, всю его историю, от Ромула, основавшего священное римское царство, до позднейшего времени, когда оно пало при Ромуле Августуле II{724}. Бедной порабощенной Италии{725} запрещается говорить, и она может лишь с помощью музыки поведать свои сердечные чувства. Все свое негодование против чужеземного владычества, свою жажду свободы, свое бешенство перед сознанием собственного бессилия, свою скорбь при мысли о прошлом величии и, наряду с этим, свои слабые надежды, свое ожидание, свою страстную мольбу о помощи — все это претворяет она в мелодии, выражающие все — от причудливого опьянения жизнью до элегической мягкости, — и в пантомимы, переходящие от льстивых ласк к грозному затаенному бешенству.
Таков эзотерический смысл оперы-буфф. Экзотерическая стража, в присутствии которой эта опера исполняется, отнюдь не подозревает, каково значение этих веселых любовных историй, любовных горестей и шалостей, в которых итальянец скрывает свои убийственные освободительные замыслы, подобно тому как Гармодий и Аристогитон{726} скрывали свой кинжал в миртовом венке. «Это просто дурацкая шутка», — говорит экзотерическая стража, и хорошо, что она ничего не замечает. В противном случае импресарио вместе с примадонной и премьером очутился бы скоро на подмостках, именуемых крепостью; была бы учреждена следственная комиссия, все опасные для государства трели и революционные колоратуры были бы занесены в протокол, было бы арестовано множество арлекинов, замешанных в дальнейших ответвлениях: преступного заговора, а также Тарталья, Бригелла и даже старый осторожный Панталоне; бумаги доктора из Болоньи были бы опечатаны, сам он был бы оставлен под сильнейшим подозрением, а у Коломбины{727} глаза распухли бы от слез по поводу такого семейного несчастья. Но, я думаю, подобное несчастье не разразится над этими добрыми людьми, так как итальянские демагоги хитрее бедных немцев, которые, затеяв то же самое, замаскировались черными дураками, в черные дурацкие колпаки, но имели унылый вид, столь бросающийся в глаза, принимали столь грозные позы и корчили столь серьезные физиономии, совершали такие основательные дурацкие прыжки, называя их гимнастическими упражнениями, что правительства наконец обратили на них внимание и были вынуждены упрятать их в тюрьмы.
Глава XXМаленькая арфистка заметила, вероятно, что, пока она пела и играла, я часто посматривал на розу на ее груди, и, когда я бросил в оловянную тарелку, в которую она собирала свой гонорар, довольно крупную монету, она хитро улыбнулась и спросила таинственно, не желаю ли я получить ее розу.