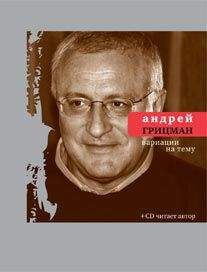Андрей Расторгуев - Русские истории
«Парничок, теплица да сарайка…»
Парничок, теплица да сарайка,
облепиха, яблоня, ветла.
Грядки год не копаны – хозяйка
прежняя зимою померла…
Ничего, весной перекопаем —
чай, не отродясь на хрустале…
Покупаем дачу, покупаем —
сами прикрепляемся к земле.
Не усадьба в ближней деревеньке,
и запросом вовсе не пустяк,
а не спросим: почему за деньги,
если по названию – за так?
Знаем, что гроша не стоит слово,
и садам цена – не пятачок…
Огляди-ка пристальнее снова:
дом, сарай, теплица, парничок…
А земля вытягивала тело,
будто нас пыталась поддержать.
Очень жить хотела. Не хотела
холостою-вдóвою лежать.
«На ступенях пушкинского дома…»
На ступенях пушкинского дома
я сижу. Июльская истома
разлита над Соротью. Вода,
льющемуся времени согласна,
движется вседенно и всечасно,
размыкая наши невода.
Тишина в Михайловской селитьбе —
уловить её да утолить бы
жажду постоянства навсегда.
Но вода течёт неумолимо,
тишина опять неуловима.
Истая душа неутолима,
сущая на долгие года
на ступенях пушкинского дома…
Караван Абдул Касыма
Великий визирь Абдул Касым Исмаил, который жил в Персии в X веке, никуда не выезжал без своей библиотеки, состоявшей из 117 тысяч томов…
Интернет-легендаДорожки апельсинового сада
заря волною нежной окатила.
Настало утро, и Шахерезада
дозволенные речи прекратила.
К тяжёлому движению готовы,
перетирая палочки полыни,
отдали сыромятные швартовы
навьюченные корабли пустыни.
Раскачиваясь медленно и мерно,
как если бы причисленные к сану,
они до Нишапура или Мерва
по древнему ступают Хорасану.
А после снова в ногу понемногу
с такой же ношей, медленно и хмуро
пускаются в обратную дорогу
в Газни от Мерва или Нишапура.
Наделены терпением верблюда,
погонщики, усталости не выдав,
пройдут повсюду, тянется докуда
обширная держава Газневидов —
единую вобравшие повадку,
из чёрной грязи поднятые в князи,
обученные строгому порядку
мудрёных завитков арабской вязи…
Лишь мёртвый или пьяница не спросит,
упившись до погибели в кружале:
– Чей это караван? И что вас носит
туда-сюда-обратно по державе?
Сбрела с ума верблюжья вереница,
хозяин ли в неимоверном раже,
и что такого ценного хранится
в усердно сберегаемой поклаже?
– Велением великого визиря, —
ответит предводитель каравана, —
в тюках ни разу не перевозили
мы ничего для тела и кармана:
ни редкостные финики и фиги,
ни золота увесистые слитки,
а только книги, праведные книги —
мудрейшие пергаменты и свитки.
Наверно, правоверные вовеки
с тех пор, как землю солнце осветило,
не ведали крупней библиотеки,
чем у Абдул Касыма Исмаила.
Работа или псовая охота —
за господином следуя в дорогу,
построенный от алефа до йота,
мой караван подобен каталогу…
Веками над благословенным краем
грома гремели, буря голосила.
Сегодня больше ничего не знаем
мы про Абдул Касыма Исмаила.
Знать, предпочёл всевидящий Создатель,
чтоб он остался в памяти как книжник —
как почитатель слова и читатель,
и как библиотекарь-передвижник.
Поток тысячелетия неистов —
перебираю вроде казначея:
ещё который из премьер-министров
в историю вошёл за книгочея?
И добавляет в утреннюю ласку
немного лёгкой горечи досада:
похоже, удивительную сказку
не досказала нам Шахерезада…
«Иные книги нынелетние…»
Иные книги нынелетние,
нам возводимые в закон,
напоминают: мы – последние,
кто пишет русским языком,
рябые рыбины подлёдные,
огнеупорные кроты,
седые птицы перелётные,
свалившиеся с высоты…
Не коршуны, но и не голуби,
из-под земли или воды
мы пробиваемся сквозь проруби
и потаённые ходы.
И как дыханье ветряное,
глотаемое сгоряча,
нам слово однокоренное,
понятное без толмача.
Ыб
Елене Габовой и Петру Столповскому
На стенке дома в селенье Ыб —
лёгкая стайка летучих рыб,
как на волне или полотне.
Клёв невелик при большой луне,
где бы и взяться плоти плотвиц.
А, может статься, то стая птиц…
Дерево изнемогло во мгле —
в чёрном тепле на сырой земле,
но, как на будущее крючки,
неистребимы его сучки —
жизни добавка, души припёк
за прорастание поперёк.
Из потревоженной целины
не взращены, но возвращены,
это они на пытливый взгляд
против теченья плывут-летят,
крыльями связывая следы
неба, земли и большой воды.
Не на приманку и не в узде —
только на тонком стальном гвозде
держатся, чтобы не унесло
полой рекой поутру село
в купах черёмух и древних ив
и его имя чуднóе – Ыб.
Старик и море
Народному писателю Карелии Александру Волкову
I
Чай-иван зацвёл на косогоре —
самый плодовитый из Иванов…
Сямозеро – маленькое море
между двух великих океанов.
Норов у него не голубиный —
выходи с опаской на моторе.
У него есть мели и глубины,
и старик, необходимый морю.
От высокой горницы к подвалу
шоркая подошвами пороги,
он один хозяйствует помалу
в доме у прибоя и дороги.
Но, пускай не вовсе умалила
тело жизнь цепочкой годовою,
заросла смородина-малина
сорною травою-крапивóю.
Нá берег с воды не торопился,
сетки ставил бережно и ловко,
а теперь у дедовского пирса
ливнями захлёстнутая лодка.
И, в неторопливом разговоре
скрадывая долгую тревогу,
слышит он, как Сямозеро-море
плещется на старую дорогу,
валуны волнами осыпает,
подо льдом – и то не засыпает…
II
В довоенные года
иногда очередями
вот такие невода
мы таскали лошадями,
вот такие мужики
подымались спозаранку,
вот такие судаки
шли на свежую приманку.
А в сегодняшнюю муть
мужиками стали бабы…
Дали б морю отдохнуть —
рыба выросла хотя бы.
III
Многое и многих без следа
унесла холодная вода,
да иное шло и по наследству…
Вышедшую замуж по соседству
тётку он не видел никогда —
поперёк семейной половицы
пролегли финляндские границы,
кровяной капели череда.
Первая была ещё близка.
Долго шли по берегу войска,
снеговые шапки осыпались.
По часам солдаты отсыпались,
плавал сизый дым у потолка.
В горнице, дополнив обстановку,
командир свернул километровку,
допил напоследок чёрный чай.
Задержался, будто над пучиной,
и с горчиной, смутно различимой:
– Всё, хозяйка – начали. Прощай…
И в потёмках сонных, раным-рано
по штабами писаному плану
завели орудия обстрел…
Выжил ли? Возможны варианты:
если не лежит у Питкяранты,
в сорок первом вряд ли уцелел.
В том снегу не только танки-пушки,
но и куропатки да кукушки
люду наклевали – не дай Бог…
Изредка случалось по-иному:
старший брат живой вернулся к дому —
две войны до края превозмог.
И когда почти через полвека
снова к ветке прикоснулась ветка,
помня о кореньях родовых,
сколько б водки ни приговорили —
обо всём рядили-говорили,
кроме зимовых сороковых.
И его двоюродные братья
не салфетки вышивали гладью…
Но, сказали, были в тыловых.
Может, в самом деле не стреляли —
били сваи, пищу доставляли…
Всякое бывает на войне.
Если до нутра не перемерить —
остаётся нá слово поверить
в то, что нету крови на родне…
IV
Был старик лесовик,
был старик рыболов,
а теперь ни уму и ни сердцу…
За несметными следом
он тоже готов
отворить у истории дверцу,
как ещё отворяет
чуть свет или снег
побелённую печь домовую…
Там спекается век,
рассыпается век,
вылетает в трубу дымовую.
– Лебединого времени
не проворонь, —
наставляют земные глубины.
Ненасытно голодный
до жизни огонь
добирается до сердцевины,
где на памяти детской
горчит не угар
на Урале на лесоповале,
а противоцинготный
сосновый отвар —
хоть залейся, его выдавали…
V
Где стоят Елань да Талица,
птица-горлица печалится
не о злате или олове —
о далёком сизом голубе.
Первая любовь примерная,
потому, видать, неверная,
мятная да перемётная,
точно стая перелётная.
Голубок не отрекается —
издалёка откликается:
хоть везде растёт смородина,
за горами твоя родина.
А моя голуба-лапушка —
там, где ходит рыба ряпушка,
где сосна стоит-качается,
а дорога не кончается.
Утекло воды и времени —
ничего не переменим мы…
VI