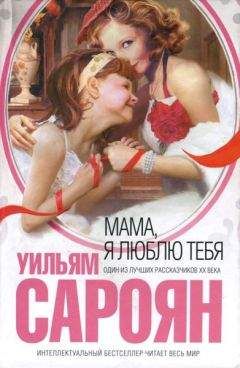Анна Брэдстрит - Поэзия США
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
© Перевод А. Кистяковский
Перед началом войны знак ЗК на казенной рубахе у американских заключенных заменили белым кругом, напоминающим «яблочко» мишени, — чтобы солдатам военной полиции было удобней целиться при попытке заключенного к бегству.
За колючей проволокой зоны, в пропотевших голубых казёнках,
Трое заключенных (белый круг, заменивший знак ЗК на спинах,
Посылает, словно Полюс чуткой стрелке
Компаса, сигналы черной мушке и глазам охранника) весь день,
Месяц, год, весь долгий срок их срока
Трудятся, вздыхая, будто дети, а вернее, звери — от отчаянья,
От необоримого терпенья, — и глядят, не ожидая ничего,
На охранника, на степь за зоной, на солдат в их пропотевшей форме,
Отбывающих свой трудный срок ученья.
Заключенные, охранники, солдаты — все они проходят обученье:
Старый мир, извечно повторяясь, образует в обученье новый.
ПОЧЕМУ, СКАЖИ…
© Перевод А. Кистяковский
Лето нехотя устилало листвою
Бурое поле. Ребенок видел —
Юркие самолетики раскатились что камушки…
Грузные гиганты исчезли, поднявшись
Над узкой тропкой с трупами муравьишек.
— Мам, смотри, он как кукла-клоун:
Красный и белый… — Но матери нет.
— Я не плачу, мамочка! Я не плачу! Кто он?.. —
Самолеты в небе — что стая воронов.
Люди карают людей — за что?
Он даст ответ. Над его рассказом —
Как реплики над героями комиксов, — ангелы.
Ребенок всё, кроме собственной гибели,
Превращает в детскую веселую сказку…
Почему я под камнем лежу, скажи!
ПОТЕРИ
© Перевод А. Сергеев
Нет, то не смерть: ведь умирают все.
Нет, то не смерть: мы умирали раньше,
Во время тренировочных полетов;
Мы разбивались, и аэродром,
Найдя бумаги, сообщал родным;
Росли налоги — тоже из-за нас.
Мы погибали не на том листке
Календаря, врезались в горы, в сено;
Мы полыхали над учебной целью,
Дрались с товарищами, погибали,
Как муравьи, собаки и чужие.
(Ведь, кроме них, никто не умирал,
Когда мы были в средней школе! С чьей же
Теперь сравнить мы можем нашу смерть?)
На новых самолетах мы бомбили
Объекты на пустынном побережье,
Вели учебные бой, стреляли
И ждали результатов. Так мы стали
Резервом, и одним прекрасным утром
Мы пробудились на войне в Европе.
Все было так же. Только гибли мы
Не по оплошности, а по ошибке
(Которую так просто совершить).
Читали почту, вылеты считали
И называли именами женщин
Бомбардировщики, в которых жгли
Изученные в школе города, —
Покуда наши трупы не лежали
Среди убитых нами незнакомцев.
Когда мы жили чуть подольше, нам
Давали ордена; когда мы гибли,
Считалось, что потери небольшие.
Нам говорили: «Здесь, на карте», мы же
Сжигали города.
Нет, то не смерть,
Совсем не смерть. Когда меня подбили,
Я вдруг увидел сон, что я погиб,
И города, разрушенные мною,
Шептали: «Почему ты умираешь?
Мы, впрочем, рады, что и ты погиб».
Но почему я должен был погибнуть?
СВИДЕТЕЛЬСТВА
© Перевод А. Кистяковский
Биркенау, Одесса, — говорят поочередно дети.
Мы ехали в поезде. Мы плыли на барже,
И народу там было — ну просто не продохнуть.
А когда мы приехали, нас отправили мыться —
по-моему, на завод, — я увидел трубу,
И мама нагнулась и взяла меня на руки,
и я разглядел впереди пароход
И дым из трубы. И дым из трубы.
Мама несла меня мыться и говорила:
«Не бойся», а я и не думал бояться —
Я просто устал. И Одессы не стало,
А только вода — холодная-прехолодная.
Там сверху вода — как дождик, но теплая.
Я пригрелся у мамы на руках и уснул,
А вода подступала все ближе и ближе.
Я помылся, и мама меня обняла,
И мне вдруг почудилось, что запахло сеном, —
А это ты умер. А это ты умер.
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ЖИЗНИ
© Перевод А. Кистяковский
Повседневность жизни (как скажет женщина,
Почитающая тысячу дел за одно,
А тебя — лишь подсобным способом способа
Сделать все ее дела — заодно, —
«Раз уж ты взялся…») однажды окажется
Живою водой из глубинных источников
Мира, — ты трудишься, обливаешься потом,
Каторжно понукаешь изработавшийся насос
Жизни, тебе вспоминается белка,
Бегущая в скрипучем колесе никуда…
Но вот, совсем обессилев, ты чувствуешь
Животворно чистые, восхитительно ледяные
Капли влаги на растрескавшихся губах —
И пьешь чудесную повседневность жизни.
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
© Перевод А. Кистяковский
Шоколадный крем воскрешает в памяти
Лакомый арахисный марципан и мамино
Полузабытое запрещение лакомиться
Купленным для стряпни ванильным сиропом.
Ложечка шоколадного крема…
Как странно —
В старости все помогает отправиться
По речке жизни к ее истокам.
Я смотрю, как белки ссорятся у кормушки,
Слушаю, как потешно копирует пересмешник
Ворчанье ручного бурундука под крыльцом…
Не так ли старость копирует детство?
Но, вернувшись в Лос-Анжелес, ты не найдешь
Лос-Анжелеса: Солнечная Страна, Калифорния,
Подернута дымным туманом, как фабрика…
Да и что ты сможешь увидеть сквозь слезы?
Апельсиновые рощи сведены.
Мой лук
И колчан со стрелами давно потерялись,
Мой нож, когда-то воткнутый в эвкалипт,
Затянут плотной древесной плотью,
Эвкалипт пошел на дрова, а с ним
И нож, и наш детский шалаш в ветвях, —
Все развеялось горьковатым дымом.
Двадцать лет спустя, тридцать пять лет спустя
Хочется жить не меньше, чем в детстве,
Тем более что лихой д’Артаньян — твой сверстник…
Только вот поверить-то в это нельзя.
Ну а все же я говорю себе, старику:
«Верую. Помоги моему неверию».
Верую — обвенчанный с бабочкой птеродактиль
Воскрес в той скрытой от взрослых стране,
Между Невадой, Аризоной и Калифорнией,
Где живут суровью предки индейцев,
Где безумная девочка с золотыми глазами,
Огромными и пустыми, была принцессой,
Как она мне сказала…
Сумасшедшая девочка, —
Я вез ее с ее матерью на машине
Из Вэйкросской тюрьмы в больницу Дайтоны,
И, если б я решился посмотреть ей в глаза,
Оглянувшись на заднее сиденье,
машина бы…
Верую — если б я сумел отыскать
Допотопный детекторный приемник, то смог бы
Услышать, как наш отчаянный вождь
Читает нам книгу про подвиги мушкетеров,
А найди я в Музее старых автомобилей
Мамин голубенький «бьюик», я смог бы
Снова вернуться туда,
и тетка,
Смуглая, высокая, с темными волосами,
Выйдя из-за вигвама по велению амулета —
Заячьей лапки, за́литой воском, —
Ошарашенно прошептала бы мне: «Умерла?
Тебе говорили, что я умерла?
Не верь».
Как будто ты могла умереть!
Верую — хоть я и не езжу к тебе —
Тебя ведь нет, — да не шлю и писем,
Ты постоянно встречаешься мне,
Меняя голос, возраст, обличье, —
И все это ты…
Вас всех уж нет,
Но вы во мне: ничто не бесследно —
Безголовая курица беспорядочно кружится,
Круги все ширятся, и ученый со спутника
Желчно глядит на беспечную Землю…
Верую — мама и брат и отец
Все еще там, в Веселых Двадцатых…
Ты говорила, Девяностые веселее?
Верно, — для юношей, которые спрашивают:
«Вы про Вторую или Первую мировую?» —
Потому что множество лет спустя
Любые Прошлые Годы — веселые.
Ну вот, а я, затерявшийся между Первой
И Второй мировыми, недавно услышал:
«Эй, Дед Мороз!»
Как трудно уверовать,
Что ты для мальчишек дедушка — «Дед»…
Я махнул им рукой и, посмотрев на нее,
Увидел темные, ломкие ногти —
Как у тети в старости…
А где же моя
Худая, с обкусанными ногтями рука?
Да вот же она! Мне привиделся на мгновение
Мальчишка в шортах. Я протянул ему руку,
Но ничего не почувствовал — мальчишка исчез.
И все же он воскресил искрящийся мир,
Затерянный на старых газетных страницах
Среди полустертых «Потерь и Находок»:
ПОТЕРЯНО — НИЧТО. ЗАБЛУДИЛСЯ —
НИГДЕ.
НАГРАДЫ НЕ БУДЕТ.
Я с волнением вспоминаю
Ничто, за которое не будет награды.
КОНЬКОБЕЖЦЫ