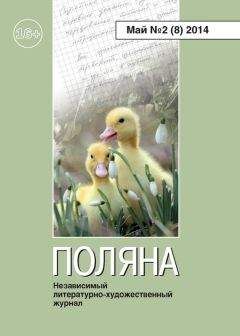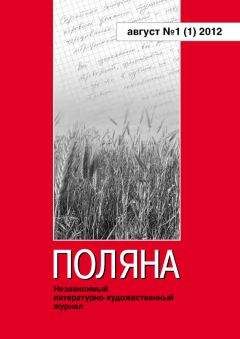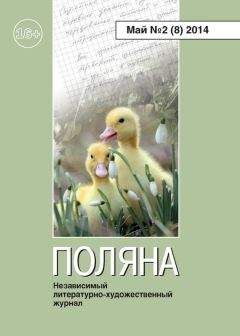Коллектив авторов - Поляна № 1(1), август 2012
В тот вечер мы возвращались из кино – смотрели иностранную ленту. После сцен сытого зарубежного существования как-то особо невесело было на тусклых московских улицах. «А не сообразить ли нам?» – предложил я. Разве Колька мог отказаться? Вот только поздно мы спохватились. Москвичи смотрели уже любимую программу «Время». Куда бежать? Я предложил завернуть на Пятницкую, купить бутылку водки у грузчиков. Два рубля сверху – пустяк. У магазина я сказал: «Жди» и пошел тесным захламленным двором к служебному входу. Дверь была заперта. Я постучал. Не сразу щелкнул замок, обитая жестью дверь тяжело раскрылась, и из душного нутра магазина выглянул милиционер, сержант, молодой крепыш в расстегнутом кителе, без фуражки. Он был пьян. «Чего?» – спросил он, и его простенькое лицо стало угрожающе строгим. «Грузчиков», – ответил я. «Зачем?» Я взял шутливый тон: «Ясное дело, зачем. У всех есть потребность». Он сделал вид, что удивлен моими словами. Потом буркнул: «Щас. Разберемся». И закрыл дверь. Через какое-то время она опять раскрылась, выглянул парень в сером халате, внимательно поглядел на меня и вновь исчез, а ему на смену вышли все тот же сержант и еще один милиционер, высокий, интеллигентного вида. Я сразу почувствовал недоброе. Обернулся – во дворе никого. Кругом одни конторы. Глухие окна безвольно отражали темнеющее небо. Колька был далеко – не кричать же. «Так ты выпить хочешь? – с фальшивой ласковостью спросил сержант. – Щас дадим». Тут его взгляд обрел жесткость, губы тесно соединились, и он коротко, но сильно выкинул вперед руку. Он метил в лицо. Я попытался увернуться, и удар пришелся в плечо. А следом посыпались новые удары. Моя милиция била меня в четыре руки. Я и не помышлял о том, чтобы ответить. Окажешь сопротивление – изуродуют. Или посадят. Стараясь уворачиваться, прикрывая лицо, я отступал к стенке. Я боялся, что мне отобьют почки. На это они большие мастера. Наконец, я плотно прижался к стене, скрючился. А в голове пульсировало: «Хоть бы Колька. При свидетеле не станут. Хоть бы Колька…» И вдруг избиение прекратилось. Милиционеры стояли запыхавшиеся, довольные. «Ну, выпить хочешь?» – полюбопытствовал сержант. Я не ответил. «Толя, принеси-ка бутылку. Начатую», – сказал он второму. Тот ушел и очень скоро вернулся. В бутылке было на треть водки. Сержант взял ее, посмотрел оценивающе на содержимое, поднес горлышко к губам, сделал несколько глотков. Утерев тыльной стороной ладони губы, вернул бутылку напарнику. Тот допил водку, бросил бутылку через плечо. Она вяло ударилась о штабель пустых ящиков, упала на асфальт и не разбилась. «Теперь можешь идти», – насмешливо сказал сержант. И тут я не сдержался, проговорил сквозь зубы: «Вам воздастся за доброту». Это ему не понравилось. Ох, как не понравилось. «Ну что ж…» – сказал он и сделал шаг в мою сторону. Бил он уже не так, как раньше, а злее. И мне стало страшно. Как бывает страшно во сне, когда начинаешь падать или за тобой гонятся. Я скрючился под ударами, закрыл лицо руками. «А ну, прекратить! – возник неожиданно чей-то властный голос. – Прекратить!» Сержант оставил меня, повернулся на голос. Из-за его плеча я увидел… Кольку. Его лицо поразило меня, неподвижное, безжалостное. Будто из камня. «Ты кто такой?» – спросил сержант. «Сотрудник КГБ», – жестким голосом выговорил Колька. «Почему я должен верить? Предъяви документы». Колька ничего не сказал, сунул руку во внутренний карман пиджака, шагнул вперед и в сторону, оказавшись рядом со вторым, высоким милиционером, а потом его рука влетела в живот милиционера, и когда тот, крякнув, начал сгибаться, Колька ударил его ребром ладони по шее. Служитель закона упал на асфальт, но как-то не по-настоящему, словно марионетка, у которой оборвались ниточки. А Колька бросился на оторопевшего сержанта и в один прием уложил его. Потом стал бить его ногами. Это было мерзко. «Ты что? Не надо так! Не надо». Но он, ничего не отвечая, продолжал бить сержанта ногами, потом взялся за высокого. «Не надо!» – я схватил его за руку, но он грубо оттолкнул меня. Я побежал, а он все бил, бил…
И опять у него было такое же лицо. Я ждал, что он набросится на меня. Я не знал, что делать? Драться с ним? На поминках? Дико. Нелепо. И когда он ударил меня в челюсть, я понял, как поступлю. Я решил не отвечать ему.
Он меня не пощадил. Удар был сильный – в глазах потемнело, я едва удержался на ногах. Но рук не поднял. Стоял перед ним, будто ничего не произошло. И он стоял, крепкий, упругий, налитый невероятной злобой. Потом словно потух. Отвел глаза, сухо выговорил: «Катись!» Опустился за стол, налил водки и выпил. Будто воду. Я подумал, что Иван Алексеевич, наверно, видел все происшедшее. Душа его видела. Это было стыдно, неприятно.
Уходя, я глянул на Кольку. Он сидел мрачный, упертый в самого себя. Я ничего не сказал. Бог ему судья.
Мария Алексеевна перепугалась, узнав, что я ухожу: «Куда ты среди ночи? Да в таком виде! – Лицо у меня перекосило, распухло то место, в которое пришелся удар. – Тебе же далеко. Ложись в большой комнате. Я на диване постелю». «Хочу прогуляться», – сказал я, и она поняла: бесполезно уговаривать.
Сонная, пустая Москва приняла меня – вокруг ни людей, ни машин. Густая тишина казалась странной, настораживающей. Звук моих шагов сопровождал меня. Вяло светились витрины магазинов.
У меня было такое ощущение, будто произошло нечто странное. Со мной. Что-то, касающееся всех и меня. Связанное с Иваном Алексеевичем, со Сталиным, с Молотовым, с моими родителями, со всей страной. И при всем том, только со мной. Что? Я вдруг понял – ушел страх. Тот самый, генетический. Который пронизывал и пронизывает все. С которым я появился на свет Божий. Который всегда чувствовал в других. Он ушел. Из моего сердца. И я был уверен, что он не вернется. Что бы ни произошло в моей жизни. Потому что я больше не хотел унижать себя страхом. Потому что уже знал, как без него.
Я шел не спеша. Мне хотелось осмыслить случившуюся со мной перемену. Я не понимал, в чем ее причина. Я лишь чувствовал – это связано со смертью Ивана Алексеевича, с поминками, с Колькой.
После этой ночи мы с Колькой почти не встречались, а в конце девяносто первого разругались окончательно. Колька не мог мне простить развала великой державы, августовских событий, участия в демократическом движении. «Вы продали Родину! – кричал он. – Разрушили ее. Где она? Ничего не осталось. Американцы возьмут нас голыми руками. А демократия ваша – обман. У нашей страны другой путь. Сталина ругаете, а такой малости понять не можете. Или нарочно делаете?»
Он ходил на митинги и демонстрации под красными флагами, водил дружбу с самыми крутыми защитниками трудящихся и был взвинчен настолько, что уже не мог ни о чем говорить спокойным голосом.
Да, судьба распорядилась так, что через пять лет после смерти Ивана Алексеевича я стал работать в Кремле. Быть может, для этого она и столкнула меня много лет назад с Колькой и его семьей. Это известно только Богу. Но я был готов к появлению в Кремле. С особым чувством заходил я в кабинет Молотова и в ту комнату, в которой прежде сидел Иван Алексеевич, ходил по коридорам, которые помнили Отца народов, Берию и многих-многих других, кому казалось, что их власть незыблема, вечна. Я чувствовал, что под старыми сводами по-прежнему витает страх, который тогда обволакивал каждого, даже Берию, даже всесильного Отца народов. Он еще жив, этот страх, еще втекает в души и сердца.
Я различал оттенки страха: страх потерять власть, страх перед заговором, выстрелом в спину, страх ареста, страх потери всего, страх перед пытками, страх за близких, страх смерти. На него наслаивался страх того, что предадут, обойдут, оттеснят, страх, что будут преследовать, что посадят, размажут по стенке. А за всем этим – первобытный страх перед неизвестностью, перед будущим, перед всем и вся.
У Кремля трудная судьба. И вовсе не потому, что снесены Вознесенский и Чудов монастырь, церковь Нечаянной радости, зато чужеродным телом громоздится Дворец съездов. Дело в другом: трудно быть вместилищем страха.
Я с моей скромной должностью – начальник отдела в управлении делопроизводства, – походил на стороннего наблюдателя, которым движет любопытство. Я видел, как много и как мало изменилось здесь с тех пор, когда по этим коридорам ступали мягко сапоги Отца народов, когда рядовые сотрудники прятались от стремительно идущего навстречу Лаврентия Павловича. Я убеждался, что почти не изменились люди, обитающие в кремлевских кабинетах, несмотря на другое время, другую власть, другие слова. И когда наступил бурный сентябрь девяносто третьего, я почувствовал, как страх начал возвращаться под высокие своды.
Потом был вечер, когда события стали раскручиваться с невероятной быстротой, и безоружных людей позвали защищать Останкино. Была ночь, долгая, полная тревожных ожиданий. И было утро, разорванное выстрелами танков, смертью людей. Страх обернулся кровью. Не мог не обернуться.