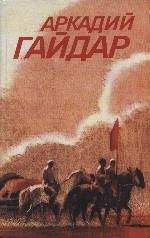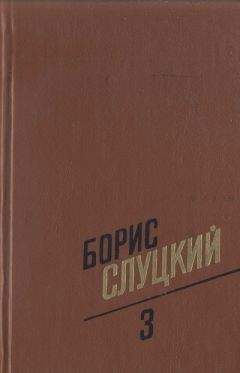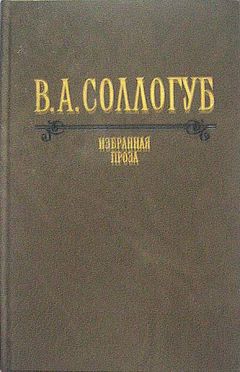Борис Слуцкий - Неоконченные споры
С маху в дождь!
Разгораемся, расцветает дождь,
пламенеет, благоухает ливень.
Нет, его в подъезде не переждешь
в настроении желчном и несправедливом.
Ливень-проливень будет лить-проливать
до утра
и завтра, и послезавтра.
Очень долго солнышку не бывать —
набирайтесь же куражу и азарта
и, газетой, свежей газетой закрыв
голову и подвернув штанины,
с маху прыгайте в дождевой обрыв
и в лихие, счастливые
ливня стремнины.
Дождь ведь самая важная,
самая влажная форма жизни
и лучшая из новостей.
А промокнете до костей — неважно!
Вы успеете высохнуть до костей.
Такая рань
Такая рань, когда часы не встали
и тикают тихонечко во сне,
а в небе кóлера застывшей стали
звезда напоминает об огне.
Еще никто зарядку не включал.
Еще нигде погода не звучала.
На дню из множества его начал
не начато ни одного начала.
Сны длятся. Им покуда не мешают
по кривизне задумчивой идти,
но дворник, выглянув в окно, решает,
скрести иль не скрести.
Машины типографские шумят,
заготовляя новости и вести,
и юношей предчувствия томят,
предвиденья
то совести, то чести.
Последние три четверти часа
Последние три четверти часа
перед Москвой и домом:
Москвы-реки песчаная коса,
высокие, густые небеса
и новенькая лесополоса,
и вдруг в окно вагонное
роса
пахнет родимым чем-то и знакомым.
Последние три четверти пройдут.
Ты сходишь на асфальт окраин,
дорожным сквозняком еще продут?
и перегромом рельсовым ограян.
Еще продут дорожным сквозняком!
Но снова ты
навечно в этом городе,
и вся Москва подкатывает,
ком
Москвы
подкатывает к горлу.
Пейзаж с телебашней
Останкинская телебашня
уже привычна и домашня
и, несмотря на малый стаж,
в столичный вписана пейзаж.
Насущная, как пайка хлеба,
она вершит свои дела.
И все-таки она стрела,
направленная прямо в небо.
Полувоздушна, невесома,
сама собой в ночи несома,
вся музыка, хоккей, балет,
она к утру начнет белеть,
светлеть от солнечного света.
И вот уже — совсем светла!
Но все-таки она стрела,
направленная прямо в небо!
Тополиный вопрос
Не решают никак
города,
как же им отнестись к тополям.
То их рубят, то колют.
То лелеют, а то не жалеют.
То последнюю корку
делят с тополем пополам.
То — попозже чуть —
пни тополиные
всюду белеют.
То дивятся
их быстрорастущей красе.
То назавтра чернят
белый пух тополиный.
Тополь, ливнем секомый
и солнцем палимый,
молча слушает, как упражняются все.
Что он думает, тополь,
когда в голубую кору
поздно вечером врежет
любовник
возлюбленной имя?
Что он думает, тополь, когда поутру
дровосеки подходят,
свистя топорами своими?
Если правда, что есть у растений душа,
то душа тополей
озверела и ожесточилась.
Слишком много терпела она и училась,
пока этот вопрос
тополиный
решался,
отнюдь не спеша.
То ли сразу их с корнем!
То ли пусть их растут, как растут,
потрясая весною
своей новизною,
умирая,
но только зимой от остуд,
летом — только от летнего зноя.
Эскиз январской ночи
Елки отработали свое.
Рождество и новогодье честно
отстояли. Всем известно,
что у елок краткое житье.
Белый снег — зеленою иглой,
шумный дворик елками завален.
Из ночи выходите — за вами
зелень с белизной
под черной мглой.
Светит колющим лучом звезда,
а луна лучом широким гладит.
Наледь. Осторожная езда.
Вот и все. А зимней ночи — хватит.
Хорошее отношение к воробью
А воробью погибнуть не дадут —
какой мороз его ни убивает,
какими ноябрями ни продут:
воробушком недаром называют.
Воробушек! Как сказано! Любовь
круглит уста, вытягивает звуки,
и весь народ протягивает руки,
чтоб в них согрелся воробей любой!
Невзрачная душонка городов,
он отлететь от них никак не хочет.
Что транспорт городской ни прогрохочет,
перечирикать тотчас он готов.
Великая и вечная душа
промышленности, техники и связи
не торопясь и не спеша
из грязи перемахивает в князи.
Заплыв
Перекатывалось течение
всей Москвы-реки через меня,
и в прекрасном ожесточении
пробивался я сквозь течение,
сквозь струю ледяного огня.
Отгибало, сносило меня,
то охватывало, то окатывало
и откуда-то и куда-то вело
сквозь струю ледяного огня.
И созвездья, зубцами цепляясь,
словно за шестерню шестерня,
пролетали — все! — сквозь меня.
Шел я, плыл я, ошеломляясь,
сквозь струю ледяного огня.
Преимущества сорокалетнего возраста
Сорок лет с пустяком еще было —
сорок с чем-нибудь только
годов.
Я еще не утрачивал пыла
и почти ко всему был готов.
Сорок лет — это молодость старости,
самое начало конца,
когда столько еще до старости,
когда столько еще до конца!
Я носил цветные рубашки
славной выкройки: «Я те дам!»
Я еще не утратил замашки,
сродные тридцати годам.
Я еще на женщин заглядывался,
а не то что сейчас: глядел.
Жил и радовался.
Просто радовался!
И не думал про свой предел.
Я еще сажал деревья,
зная, что дождусь плодов,
и казался мне древним-древним
счет
настигших сегодня годов.
Словно сорок сороков
вместе с сорока друзьями,
я взлетал высоко-высоко
и не думал о черной яме.
И другие есть льготы и прелести,
краю нет им, конца им нет,
У поры незабвенной зрелости,
именуемой: сорок лет.
Старые дачники
Старые, и хворые, и сирые
живы жизнью, все-таки живой,
старость, хворость, сирость компенсируя
летом, проведенным под Москвой.
Вот еще одна зима прошла.
Вот еще одна весна настала.
Та кривая, что всегда везла,
вывезла опять, как ни устала.
Тощие, согбенные и бледные,
до травы доползшие едва,
издают приветствия победные,
говорят могущие слова.
Вот они здороваются за руки,
длительный устраивают тряс,
в Алексеевке и в Елизаровке
встретившись уже в который раз.
Вот они глядят хозяйским глазом:
солнышко —
где быть оно должно,
ельничек, березничек —
все рядом.
Поспевают ягоды давно.
Раз судьба
их пощадила снова,
стало быть, не миновать судьбы
вам,
пока еще в лесу сосновом
укрывающиеся
грибы.
Три алексеевских козы
Старик и три его козы,
пройдя искусы зимних тягот,
за год состаренные на год,
живут! По ним — не лить слезы.
Старик мотает головой,
но все-таки еще живой.
Козел бородкою мотает,
но все ж не в небесах витает:
живая жизнь его питает
зеленой, сочною травой.
И я, который их нашел
живыми и в хорошем стиле,
нелегкий этот год прошел,
как будто бы меня простили
и вновь за пиршественный стол,
пусть где-то с краю, посадили.
Московский йог
Йог, который после работ,
после всех забот и собраний,
все же на голову встает
и стоит, молодой и странный.
Два часа, два с половиной,
даже три часа на голове!
В проносящейся мимо лавиной,
в равнодушной к йогам Москве.
Йог, который сердечный ёк,
боли в печени, в кишке шишки
усмиряет, съедая паек
из растрепанной взятой книжки.
Он бредет с улыбкой восточной
по-над западной пустотой,
деловитый и даже точный,
сложный, в то же время простой.
Он, по коммунальной квартире
все расхаживающий в трусах,
он, в шумливом и сложном мире
попадать не хотящий впросак, —
сыроядец, молокопийца
ради странных своих идей,
успевает он как-то скопиться,
накопиться между людей.
Он склоняется над Европой,
он толкает ее к траве:
ну, чего тебе стоит! Пробуй.
Постоим на голове.
Петровна