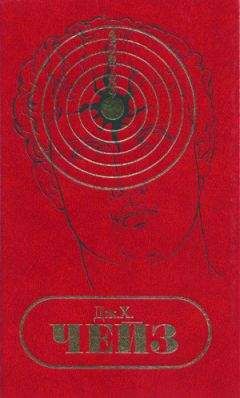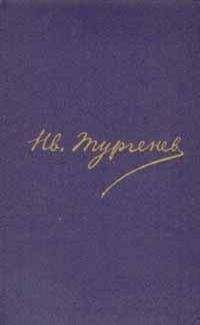Ду Фу - Ду Фу. В переводах разных авторов
Исходя из смысла этого рассказа "Луньюя", следует признать, что словами "тучные кони и легкие меховые одежды" Ду Фу выразил свое осуждение поведению своих бывших товарищей. И вместе с тем высказал осуждение порядков, при которых люди, заботящиеся только о себе, о своем благополучии, отнюдь не остаются на низких постах.
В свете этих двух стихов становятся понятны и слова о Куан Хэне и Лю Сяне. Понимать их следует так же, как осуждение порядков, господствовавших во времена Ду Фу. Поэт хочет сказать, что и сейчас есть свои куан хэны, свои лю сяны, т. е. существуют ученые, способные развивать науку, но они не нужны, а вот те, кто думает только о личном благополучии, - в почете. Таков смысл второй строфы этого станса.
4
Как слышу - Чанъань похож на шахматную доску.
На сто лет хватит событий... не преодолеть печали.
Дворцы князей... у всех них новые хозяева.
Гражданские и военные одеяния и шапки...
они не на тех, что прежде.
Прямо на север на горных заставах гонги и барабаны
гремят.
В походе на запад колесницы и кони с оперенными
грамотами мчатся.
Рыбы и дракон запрятались... осенняя река холодна.
Родная страна... постоянно о ней мои думы.
В этом стансе все ясно и понятно. Поэт в ярких образах вполне точно обрисовывает положение своей родной страны. Можно даже подивиться тому, как в немногих словах он сумел отметить все существенные события своего времени.
Первое из них и самое важное для страны - восстание Ань Лу-шаня. Ань Лу-шань, как и другие вожди восстания, поднимаясь против императора Сюаньцзуна, действовал в своих интересах, но в его войска вливались отряды крестьян, которым стала уже невмоготу система правительственных наделов, связанная с массой налогов и повинностей. Однако борьбой против правительства руководили военачальники-феодалы, преследовавшие собственные интересы и не останавливавшиеся перед разорением целых областей. Обе стороны - как военачальники правительственных войск, так и руководители восстания - без стеснения прибегали к услугам наемников, особенно из уйгуров. Отряды этих полукочевников смотрели на Китай как на страну, отданную им на разграбление. А за ними, стремясь использовать благоприятную для грабежей и захватов обстановку, в границы страны вторгались уже "незваные" отряды сородичей этих наемников. Чанъань переходил из рук в руки. В 765 г. его занял Ань Лу-шань. В следующем году его выбил оттуда Го Цзы-и, один из военачальников правительственного лагеря. В 763 г., когда был убит главный тогда предводитель восстания Ши Чао-и {19} и восстание прекратилось, страну постигло вражеское нашествие: в нее ворвались орды кочевников из Тибета. Они дошли до самой столицы и овладели ею. Тому же Го Цзы-и снова пришлось освобождать столицу. Действительно, как и говорит Ду Фу, Чанъань был похож на шахматную доску, клетки которой занимали фигуры то одной стороны, то другой. Естественно, что в городе все изменилось. Наемники, остававшиеся в столице, вели себя как в завоеванной стране. Дворцы, дома знати опустели: одни хозяева убежали вместе с отрекшимся Сюань-цзуном и его двором на юго-запад - в далекую, богатую и тогда еще спокойную провинцию Сычуань; другие кинулись на северо-запад, в провинцию Шэньси, где Суцзун, новый император пытался сформировать правительство. Таким образом, в Чанъане, как и говорит Ду Фу, появились новые хозяева, не говоря уже о "лихих наемниках", хозяйничавших в столице. Военачальники, попеременно владевшие этим городом, назначали своих должностных лиц - гражданских и военных. Знаки чиновничьих званий - особые одеяния и головные уборы - появились теперь, как и говорит Ду Фу, совсем на других людях, чем раньше.
Но страдала не только столица. На пограничных заставах Шэньси и Ганьсу, этих окраинных северо-западных областей империи, неумолчно гремели гонги и барабаны - сигналы опасности: они возвещали о приближении новых и новых отрядов уйгуров. На западные границы мчались правительственные курьеры с "оперенными грамотами", т. е. со срочными распоряжениями об организации отпора вторгавшимся тибетцам. 763-765 гг. были очень тяжелыми годами для этих областей страны, ставших ареной вражеских нашествий. Если добавить к этому вспыхивавшие то здесь, то там местные междоусобицы, захватывавшие даже "спокойную" Сычуань, то можно согласиться с Ду Фу: событий было столько, что их вполне хватило бы на целое столетие. Можно понять поэта: "не преодолеть печали!".
Эти слова сказаны в начале станса, и к этому же мотиву поэт возвратился в конце.
Последние два стиха снова возвращают нас к обстановке, в которой создан этот цикл: к осени в Куйчжоу. Время шло, "осенняя река холодна"; приближалась зима. Рыбы и драконы, обитающие в глубинах вод, воспринимают приближение зимы как наступление ночи и "укладываются спать" - прячутся в свои убежища до самой весны. Все затихает, замирает. Но не успокаивается сердце поэта: "родная страна... постоянно о ней мои думы". Так заканчивается этот исторический по своему содержанию станс.
5
Ворота дворца Пэнлай обращены к Наньшань.
Золотой стебель Чэнлу... там, где дожди и небесная
река.
На западе вижу вдали пруд Яочи... там нисходит
Сиванму.
С востока идет фиолетовая дымка... заполняет
заставу Хань.
Облака расходятся... фазаньи хвосты раскрывают
дворцовое опахало.
Солнце окружает чешую дракона... узнаю государево
лицо.
Лежу у реки... пугаюсь, как год вечереет.
А сколько раз у лазоревой цепи стоял при перекличке
у дворца.
Начиная с этого станса все меняется. Реальный план - картина осени в затерянном в горах укреплении - отступает. Отступает и "родных садов сердце" - воспоминания о своем прошлом. Отступает и "о родной стране дума" - картина состояния государства. На место всего этого выступают видения.
Высоко на горе красуется пышный дворец Пэнлай. Его главные ворота, а это значит весь фасад, повернуты к Наньшань - Южной горе, т. е. к солнцу. Вздымается ввысь - туда, где собираются дожди и протекает Небесная река, т. е. к самому небу, "Золотой стебель" - медный столб, увенчанный чашей Чэнлу, "принимающей небесную росу". Там, на западе - Яочи, Яшмовый пруд. В него сходит Сиванму, "Мать - царица Запада". С востока идет фиолетовая дымка. Вот она уже заполнила заставу Хань. Медленно расходятся облака - два сомкнувшихся пышных фазаньих хвоста-опахала над троном, - и в сиянии солнца сверкает золотая чешуя дракона... Узнаю лик самого государя.
Что это такое? Чанъань? Видение столицы? Как будто так. Пэнлай - это Дамингун, дворец за воротами Красного феникса, на горе Лунгоушань, т. е. один из загородных дворцов танских императоров. Его главные ворота, а это значит и он сам, обращены, как это и полагается, к югу - в сторону Наньшань, ныне - Чжуннаньшань, - Горы Юга. В дворцовом парке действительно был "Яшмовый пруд" - Яочи. У трона в парадном зале действительно было большое опахало, сделанное из пышных фазаньих хвостов. Когда обе половинки этого опахала раздвигались, перед всеми представал восседавший на троне император и в лучах солнца (трон был обращен на юг) действительно ярко блистал вытканный на его одеянии дракон. Но в видении поэта для омовения в Яшмовый пруд сходила не Ян Гуй-фэй, прекрасная фаворитка Сюаньцзуна, а Сиванму - "Мать - царица Запада", того таинственного "Запада" древних китайских легенд, который был для обитателей древнего Китая такой же страной чудес, каким был когда-то для людей Запада загадочный Восток. Один из правителей глубокой древности, Му-ван, пробрался в эту таинственную страну, был гостем "Матери - царицы Запада" и пировал с ней на берегу Яочи - Яшмового пруда {20}.
Но может быть, поэт здесь просто говорит образами древней легенды о том же парке Чанъань, и "Сиванму" просто поэтическое обозначение императорской фаворитки?
Можно было бы подумать и так, если бы не "застава Хань" и не "фиолетовая дымка", которая надвинулась на нее с Востока. "Застава Хань" никак уже не Чанъань, даже как-нибудь фигурально. Это где-то на далекой границе страны; пройдя ее, путник попадает на дорогу, ведущую именно на "Запад" - в ту самую неведомую, полную чудес страну, которой правит "Мать - царица Запада". Когда-то, также очень давно, страж этой заставы заметил странное явление: с Востока, т е. из глубины Китая, к заставе медленно надвигалось облако - дымка необычайной фиолетовой окраски. Он был мудр, этот страж, и сразу понял, что эта дымка возвещает, что к заставе приближается "Дао-жэнь" - "Человек Дао", "Человек Пути". И действительно, скоро у заставы показался восседавший на быке величественный старец. Это был Лао-цзы. Страж низко склонился перед путником, который, передав ему для покидаемой им страны "Дао дэ цзин" - "Великую книгу о Дао и Дэ", проехал заставу и исчез навсегда {21}.
Если "застава Хань" не Чанъань, и "фиолетовая дымка" никак не дымки из очагов столицы, то солнце в следующем стихе не солнце, восходящее над городом, фазаньи хвосты не дворцовое опахало, дракон не прозаический император в парадном одеянии: поэт в своем видении увидел во всем блеске самого "Сына Неба", властителя могучей империи, во всей его славе.