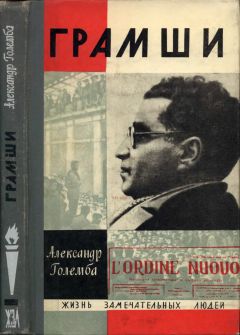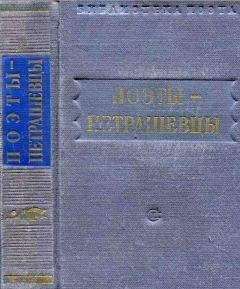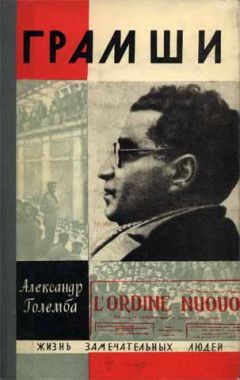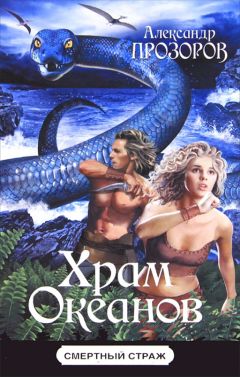Александр Големба - Я человек эпохи Миннезанга: Стихотворения
«Зачем мы на свете живем?..»
– Зачем мы на свете живем?
– Наверное, чтобы глядеть,
как яркое солнце зари
восходит в лазури над нами,
как прямо в глаза бытию
смеется закатная медь,
как прямо в закатную медь
ложится холодное пламя.
«Солнцеликое, ты лучей не прячь…»
Солнцеликое, ты лучей не прячь,
не прикидывайся лучиною!
В пиджачке нараспашку выходит грач
поразмять сочлененья грачиные.
И жемчужного цвета рубаха на нем,
свежевыстиранная, топорщится,
и леггорнов гребни горят огнем,
и лепечет сорока-спорщица.
Рыжий щебень бит да кирпич негож
под распахнутой снежной шубою:
переулок наш до чего похож
на гребенку щербатозубую!
Порастеряны нынче мои слова,
не настигну нужного слова я,
а в проемах пустых кипит синева,
синева, синева шелковая.
То синей становится, то рыжей,
то мутясь, то прозрачней прозрачного
отражается в окнах всех этажей
от подвального до чердачного.
Это березень – в бирюзе, в серебре
и на лужах лазурной заплатою.
А над городом – на Холодной Горе
громоздится церковь пузатая.
И такая на всем лежит благодать —
даже церковь глядит скворешнею! —
что года зимы я готов отдать
за вот эти недели вешние!
За вот эту боль, за вот эту грусть,
за вот этот осколок холода,
за вот эту смешную, пустую пусть,
за вот эту земную молодость!
Ясноликое, ты лучей не прячь,
ты гордись облаков отарою:
пусть с рассветным солнцем играет в мяч
Озарянская церковь старая!
МАРТОВСКИЙ ТУМАН
Это пагубный дурман,
дух мятежный и влюбленный,
это мартовский туман,
от луны – светло-зеленый!
Это тяга берегов
дальних – слиться воедино,
это мартовских снегов
одряхлевшая лавина!
Битва стужи и тепла,
огнь сквозь снежную порфиру, –
запотевшего стекла
слезы, видимые миру!
В эту бестолочь тоски
ты вступил, отлично зная,
как, тревогам вопреки,
тяга действует земная!
Как печаль разлук и встреч
утоляет все обиды
и кого на что обречь
могут мартовские иды.
ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ
Дорожи весенними приметами,
дорожи сугробами примятыми,
ветками по-вешнему пригретыми,
но еще по-прежнему мохнатыми.
Наши весны обменялись опытом,
первыми негромкими звучаньями,
первых струй первоначальным рокотом,
первыми ручьями изначальными.
Как по многоуличному городу
разгулялись важные да вьюжные,
а потом в сосулечную бороду
нехотя вплетались ветры южные.
Пролетали голубыми тропами,
тополей пирамидальных купами,
этот прилетел из Симферополя,
этот прилетел из Мариуполя.
Покивали им верхушки острые,
острые верхушки кипарисные
где-то на полынном полуострове,
в Севастополе у Графской Пристани.
Зажурчали в солнечных проталинах
струйки, поначалу еле видные,
каменщики встали на развалинах,
мастерки сжимая сердцевидные.
Разбухали зерна полновесные,
молодой земли во чреве сущие,
щебетали ласточки чудесные,
на своих крылах весну несущие.
И пробившиеся сквозь расселины
купы, разделенные яругами,
на святую верность вербной зелени
присягнули листьями упругими.
БЕРЕГ ПРОЗРЕНЬЯ
Март – это месяц бога Ареса,
александрийские вирши Расина.
Березень – это речка Оресса,
это Россия.
Эти вот рощи, эти дубравы,
терем сосновый.
Это отчизна слова и славы,
славы и слова.
Это на травах, кровью омытых,
туша оленья.
Березень, березень – весь в аксамитах
берег забвенья!
Ежели ты не родился в сорочке,
жребий свой вытянь!
Березень, березень – пухлые почки,
цветень и квитень.
Это лепечут липы и клены,
бук остролистый.
Березень, березень – берег зеленый,
тихая пристань.
Вот мои очи – в тесных орбитах
недоуменья.
Березень, березень – весь в аксамитах
берег прозренья!
«Золотокрылая гроза…»
Золотокрылая гроза,
гроза, которую искали,
и молнии по вертикали,
и семицветные глаза
нежданных радуг. Сабель в буче.
Лучей над крышами Москвы.
Единство зноя и травы,
и ветер ясности летучей.
Золотокрылая гроза,
гроза у наших тусклых стекол:
по тротуарам дождь процокал
тоской козырного туза!
«Майская зелень в солнце закатном…»
Майская зелень в солнце закатном
нежно трепещет, как ласковый зверь.
Верь этим тайнам и верь этим пятнам,
этим земным озарениям верь.
Краше евангелий всех и коранов эта,
что дремлет, сердца веселя,
вся, без асфальтов и башенных кранов,
как таковая, земля. Земля.
Та, по которой путем мы измаяны,
та, из чьей глины с тобой мы изваяны:
ты – из ребра, я – из глины немой,
снежной зимой, белоснежной зимой.
Бьют золотые матросские склянки,
мы уплываем в какую-то мглу.
Что это там – волейбол на полянке?
Ветер припал к смотровому стеклу.
Майская зелень, майская зелень,
Всех новолуний цветущая юнь.
Май на исходе, и в горечь похмелий
тихо вплывает июнь.
«Пусть август, махровыми астрами хвастая…»
Пусть август, махровыми астрами хвастая,
застынет в твоем помутившемся разуме;
багровые скифы несомы гривастыми,
ширококостными, широкотазыми,
исхлестанными сыромятными плетками,
гнедыми и взмыленными кобылицами;
когда бы я знал, что под утро приснится мне
вот этакий из несуразицы сотканный,
пустяшный, но кажущийся незряшным
и горько пропитанный дымом кизяшным,
мучительный сон, – о, тогда бы, тогда
в камин бы не прянуло скитское пламя;
орел или решка – шуми, тамада!
Щетинься усами, блести газырями:
перстами пройдясь по серебряной черни,
вмешайся в дебаты о чести дочерней,
о древнем кочевьи, о деве в седле,
о счастьи забытом на дольней земле.
Орел или решка – к узорным решеткам
кирпичное пламя, – посмотрим ужотко,
к экрану камина карминовый стяг,
и снова затмилось, и снова в сетях.
Шуми, тамада, – дошумишь на заре ты,
когда отягченно сомкнутся уста,
когда страстотерпец из Назарета
устало сойдет с неземного креста,
когда на добычу опустится птица,
ширяющая над разливами трав.
Горячая влага сочится, сочится, –
уйми ее, к ранам губами припав…
Уйми ее – это не капли кармина,
алеют стигматы, как соль горячи,
уйми ее – это не пламя камина,
не жаркое пламя церковной свечи.
Покуда не стала она кахетинским,
покуда в аренду не взята Вертинским,
покуда еще не узяз коготок,
живыми губами уйми ее ток.
Прислушайся к биению сердца
Пилатами ра спятого страстотерпца,
мы больше не верим в возможность расплаты,
быть может, мы сами немножко Пилаты…
Охвачена влага зеленым стеклом,
чужая отвага встает за окном,
далекий Амур, обагренный Хинган,
и вдребезги хмурый граненый стакан.
… Зеленый осколок с земли подыми,
пойми, он смарагдов иных драгоценней,
его озаряет обугленный мир
и в человецех благословение.
«Мне ненавистна злая пыль…»
Мне ненавистна злая пыль
на тротуарах лупоглазых,
я полюбить хочу ковыль
и травы в солнечных алмазах.
Но я не видел этих трав,
я всё бродил – слепой, понурый –
в краю, где фриз, и архитрав,
и чудеса архитектуры,
среди облезлых этих стен,
среди наяд из алебастра,
где ночь и мрак, где тишь и плен,
где жизнь не стоит и пиастра,
где только астры в наготе,
когда уж нам весь мир несносен,
подобны знобкой пустоте,
грустят, махровые, под осень.
«Желтый шар на небосводе…»