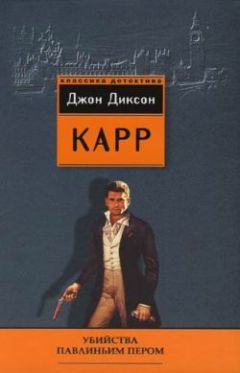Брейтен Брейтенбах - Не пером, но пулеметом
Моему мертвому брату, Тиро
Был живым чернокожий человек по имени Тиро, Абрахам
(и Тиро лежит в луже крови),
он хотел в университете научиться наукам
(и Тиро лежит в луже крови),
стал преподавателем, воспитывать, учить
(и Тиро лежит в луже крови),
но еще задолго до отправки в Живомертвию
ему пришлось покинуть родную страну,
поселиться в деревушке под названьем Габороне,
в стране под названьем Ботсвана, в пустыне,
где его слова зажигали между тем повсюду
огоньки борьбы за свободу...
Но белый господин решил, что каждый черный
должен помнить свое место, а не то...
и белый господин прислал по почте книгу для Тиро,
и Тиро лежит в луже крови,
и Тиро лежит в луже крови,
и Тиро сердцевина пламени в алом пламени.
* Тиро, Абрахам - южноафриканский политический деятель,
скрывавшийся в Ботсване; агентами претории ему была прислана
из Европы посылка с книгой, содержавшая пластиковую бомбу.
"ПРИДИ ВЗГЛЯНУТЬ НА КРОВЬ НА УЛИЦАХ"
незрячие видят: начало ночи в самой себе
когда кровь еще безобидно чеканит шаг в ритме сердца
как часовой на верхней площадке башни
на гребне горы
когда птицы еще в плотно натянутых
жилетках с оранжевыми разводами
рвущимися от песен, еще тишина звенит напряженно
как новенький гвоздь загоняемый в живое дерево
когда город еще прикрывает окна гардинами
когда двери еще поскрипывают на каждой улице
но смерть налицо: ликвидация всего
существовавшего вокруг тебя - благодаря чему существовал ты;
сердце вырванное из дома как одинокий гвоздь
смерть в том, что тебя нет; смерть глуха, слепа, бессловесна
смерть в том что ты никогда не существовал
ты даже не отсутствуешь потому что не присутствовал
и ты мертв:
но приди взглянуть на скользкие мостовые
на мертвых
в зеркале кровавых лужиц
на лица прикрытые несвежими газетами
со старыми новостями
которых уже не прочесть остекленевшим глазам
на бродячих собак робких и наглых - от голодухи
выходящих из серости утра дрожа и храбрясь - только от голодухи
чтобы облаять остаток мечты о социализме
приди взглянуть на солдат и на янки,
ныне святых заступников Сант-Яго
приди взглянуть на мух и на пыль и на сталь,
открой глаза, Неруда,
и приди плакать о твоем народе.
(СТИХИ С ПОЧТОВЫМ ГОЛУБЕМ)
Моя любовь,
здесь я мертв,
глаза и рот от навозных мух окружила зелень,
но из этого страшного места,
тихого благодаря закрытым воротам и зарешеченным окнам,
я вижу тебя по ту сторону
крепких стен форта, заграждений,
баррикад и рвов, окруживших колонию,
по ту сторону лениво ползущей пустыни,
по ту сторону шорохов дождевого леса,
за далеким мерцанием моря.
Я говорю с тобою,
моя любовь,
в золотом городе Риме,
в этом полном золота кладбище я жаждал видеть тебя.
В моих глазах - уста твои полны жемчуга
и волосы черны как вороново крыло;
ты стоишь как кипарис;
кожа твоя играет солнечными зайчиками,
словно доспехи храброго солдатика
или панцирь смелой маленькой черепахи.
Я увидел тебя, и мой ужас воскрес,
волнение другого материка.
Я боюсь твоих закрытых глаз,
это гложет меня как червь.
Чтобы увидеть тебя, я лечу
вдоль Чивиттавекья и дальше, держась берега
с красными домиками, вокруг которых
сушится белье на веревках и шепчут сосновые рощи,
а дальше в туннелях гулко свистят поезда,
к морю сбегают виноградники и финиковые пальмы.
Генуя, вот и граница...
Любовь, любовь моя!
По ночам твой страх бьется в окно, как слепой мотылек.
В Ницце из толпы отдыхающих призраков
к тебе не приходит уроженка Прованса,
женщина с твоими глазами, обращенными к югу,
откуда нет новостей.
Я чувствую, как ты сжалась,
сколько силы в тебе, сколько слабости!..
Я знаю, тот, кого ты ждешь,
это совсем не я.
Он будет стар, как снег, пролежавший всю зиму в яме,
или как ветер, пролетевший все наши земли,
но он приведет вместе с собой и меня.
Будешь ли ты ждать нас?
Пожалуйста, не тоскуй,
будь такой, как я тебя вижу, - радостной.
Помни, что наше время в твоих руках и губах,
сберегай нашу радость и убивай нашу боль,
радуйся, как радуются праздничной стране моей мечты,
потому что ты - зной моих пальм,
ты - зерно моих фиников, ты - скрытый огонь моих дел,
ты - дыхание моих уст.
О моя любовь!
Взгляни, я возвращаюсь
на невидимой этой бумаге,
слепоглухонемой,
я пишу тебе без конца.
(СТИХИ НА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГЕ)
Все бывает - быть может, еще через пару дней
это большое кирпичное здание, в котором я нахожусь,
его цементные коридоры и стальные переборки
все грани сотрутся, останется только свет,
одинокий старик, поддерживающий огонь в высокой башне:
тюрьма станет для меня монастырем,
затерянным в горах.
Плотно скатав подушку,
сооружаю подставку для коленей,
пытаюсь сосредоточиться, глядя в стену прямо перед собой,
внутри священного пространства,
но в ушах навяз ненужный шум
сухо звучащего деревянного гонга.
Я скрещиваю ноги и делаю глубокий вдох.
Может быть, я сумею вдохнуть небытие, так
что уже не вернусь к действительности?
Но: сквозь стены ломится вся моя суета,
обострившиеся желания, яркие
образы моего распятого мира
как долго будет эта страна жить у меня в памяти?
Это сердце не сможет отупеть в бездействии!
Я буду оплакивать великую жизнь,
до тех пор, пока мой труп не выбросят на деревенскую площадь,
где его сожрут собаки
и потом удобрят им поля:
НЕБЫТИЕ И СМЕРТЬ - ОДНО И ТО ЖЕ!
Но и это сотрется
священное внутреннее пространство
станет садом радости для ночных птиц
и луна обрастет перьями!
Но и это сотрется:
плотно сходятся трещины, срастаются осколки,
в бесконечном пространстве я буду слышать
только собственное дыхание,
вдохи и выдохи,
до тех пор, пока они переливаются один в другой,
до тех пор пока я дышу.
Когда свет из башни
сольется с белой стеной,
я буду сидеть в сугробе солнца,
а моя отрубленная рука будет лежать
снизу на записной книжке
цветок для тишины.
Тюрьма - вокруг,
путь бесконечен,
но какое мне дело до всего этого?
ГОСПОДИ, УСЛЫШЬ
Господи, услышь песню приговоренных,
удавленных пуповиной виселичной петли:
услышь вой тюремных вагонов,
сухие щелчки выстрелов,
словно треск хрупких маленьких косточек
сброшенного с небоскреба зайца;
услышь, как взрываются звезды,
ибо ночь - капкан, и день - засада;
услышь тех, кто рыдает белозубыми ранами ртов,
обесчещенных падших нищих,
мужчин, потерявших мужество,
женщин с черными животами,
полными черной боли и черных звезд
потому что хватит, хватит, о Господи!
Ты говорил нам, но теперь спроси нас, Господи,
потому что здесь в наших глазах
майский день,
майский день нашего сердца
Господи, склони ухо к земле и услышь
и плюнь потом на твое зеркало.
И узри в воздухе дыру, которая велика
и с каждым мгновением ширится от безмолвия.
ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ
Солнце стоит высоко, оседлав небосвод,
роняет холодные капли - мерцающий льдистый конус,
шерсть пламени холода. Дребезжание,
ставшее камнем. Оседлав небосвод, солнце горбится
в лиловатом окрестном небе, образуя
зеркало: в нем ни единого отражения,
только бледноватый сгусток.
Напротив стена купальни, стальной лист,
в котором плавают зыбкие силуэты долгосрочников: бриться
предписано, но глотку перерезать непросто,
шейная артерия глубоко. Яблоко сердца гниет в груди,
в запястьях пульс - толчками поезда.
Сейчас - отсидев в одиночке уже не знаю сколько
странным образом обнаруживаю в камере зеркало: зрачок
застывшей воды; но под холодной пленкой
подсадная птица: бледная морщинистая обезьяна,
может быть, китайская, дикие ужимки, жесты,
едва встречаемся глазами. Слой на слой, гримаса на ухмылку,
серый пепел. Рот ее - кровавый мрак
сердцевины яблока. В глазницах - лиловатая грибница.
Образ обретает яркость: я отныне не один.
Нужно учитывать свои слова.
О, как же это случилось? Зима, будто яблоки,
в серой и рыхлой земле. И ветер,
взметающий золу, ветошь, газетные слова, дохлых псов,
гильзы, вскрытые шейные артерии улиц
трупы, покрытые слепнями, влипшими в ладони.
Стальные глаза вертолетов кружат над графикой дыма.
Перископ, ледяной осколок, встающий из синевы.
* одно из стихотворений, написанных в одиночном заключении и