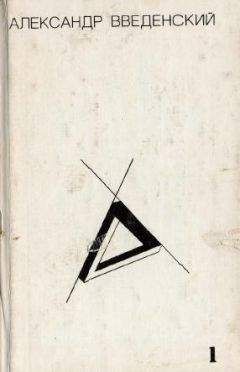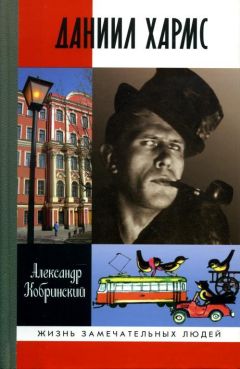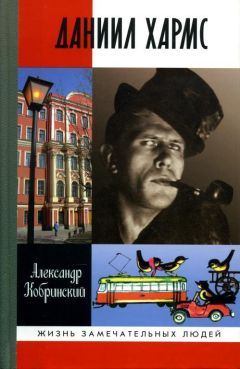Александр Введенский - Том 2. Произведения 1938–1941
Сохранившееся наследие Введенского замыкается ставшей хрестоматийной Элегией (№ 31), о которой поэт говорил, что она отличается от всех прежних его вещей, и которая вместе с тем реминесцирует огромные пласты его градационной образности, и пьесой «Где. Когда» (№ 32). Память о несравненной Элегии — первом из изданных в шестидесятые годы стихотворении Введенского — жила и в послевоенные годы, когда его поэзия была практически никому не известна. Как и в следующем — последнем — произведении, написанном в предвидении надвигающейся гибели, здесь более, чем где-либо в остраененном творчестве поэта, ощущается личная нота:
На смерть, на смерть держи равненье,
певец и всадник бедный.
Пьесу «Где. Когда» (№ 32) Я. С. Друскин, пользуясь термином Л. Липавского, называет «свидетельским показанием» последних месяцев, может быть, даже дней его жизни в ожидании момента смерти, когда, по словам самого Введенского, возможно чудо, — оно возможно, потому что смерть есть остановка времени. Биографический фон произведения заставляет осмысливать названия его частей — Где и Когда — не столько в знаковом значении разрываемого смертью детерминированного пространственно-временного континуума, сколько в связи с абсолютной конкретностью экзистенциально переживаемого здесь и сейчас, в котором смерти нет. Близкий, несомненно, «чинарскому» мироощущению (отразившемуся, в частности, в философских произведениях того времени Я. С. Друскина) дух опустошения, выключения себя, воздержания от суждения, наметившийся а Сутках (№ 27) и предшествующей лирике и в большой мере выразившийся в Разговоре об отсутствии поэзии (№ 29.2), сюжет которого, как во многих произведениях искусства XX в., составляет именно «невозможность создать произведение», — дух этот в последних вещах Введенского совершенно особым образом окрашивает давно, казалось бы, дискредитированную им категорию понимания: Ничего я не мог понять (№ 29.10); Он ничего не понял, по он воздержался (№ 32), — открывая таинственный путь в широкое непонимание, о котором он говорит в «Серой тетради» (№ 34) и который сквозит за поэтикой его последних вещей: — Уважай бедность языка. Уважай нищие мысли, — в начало первого Разговора (№ 29.1). Такую роль приобретают в них слова со значением «дальности», «крайности», «малого количества, Степени» и т. п. — таково самое название Некоторого количества разговоров (№ 29), образ отсутствия значительной величины воды в Сутках (№ 27), а в «Где. Когда» — подаренное рыбами и дубами небольшое количество последней радости, немногочисленная земля, слабый вид орла, которого не имеет море ослабевшее от своих долгих бурь, последнее что есть в природе — пустыня, дальность всего от моря и т. д. В ту же связь надо поставить роль в этих текстах, особенно в последнем, неопределенно-отрицательных, местоименных, адвербиальных конструкций, и частности с ограничительным значением — как он бывало или небывало выходил на реку, не то дикари не то нет и мн. др. Основной обессмысливающей фигурой в них становится эллипс, употребление которого распространяется на широкий спектр случаев — от простого опущения слов и частей предложений (рыдая и прижимая к глазам (№ 29.4); Мне слишком; Но я её (№ 30, карт, 7); Где он стоял опершись на статую (№ 32); Она прощалась так, что. Вот так (Там же) и мн. др.) до опять-таки метаописания с помощью последовательного развертывания самого этого приема «выключения себя», «воздержания»: Тут тень всеобщего отвращения лежала на всем. Тут тень всеобщего лежала на всём. Тут тень лежала на всём («Где. Когда», № 32). Эта последняя модель, которая могла бы служить поэтической иллюстрацией к понятию трансцендентальной редукции в философии Гуссерля, получает особое значение и связи со следующей далее фразой — Он ничего не понял, но он воздержался. Категория «воздержания от суждения» разрабатывалась в конце 20-х-30-е годы в философских произведениях Я. С. Друскина (независимо от Гуссерля). Отсюда таинственное молчание и умолчание и отсутствие звука, производящее, однако, действенное внушение и нам и вам и ему. Нарочитая как бы оговорка, прорывающаяся в прямую речь — Я забыл попрощаться с прочим, т. е. он забыл попрощаться с прочим, — вместе с неожиданным здесь воспоминанием о Пушкине придают этой вещи пронзительно-лиричное звучание. Герой «Где. Когда» ничего не сообщает деревьям, ничего не возражает камням, ничего не говорит рыбам и дубам — он цепенеет, леденеет, каменеет, сам обращается в статую. Из глубины само-опустошения, молчания, воздержания от суждения человека, задумавшегося о своем условно прочном существовании, рождается молитва:
Спи. Прощай. Пришёл конец.
За тобой пришёл гонец.
Он пришёл последний час.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.
Этой частой и ясной нотой завершается творчество Введенского, о котором мы смогли сказать здесь не так много, хотя предпочли бы вместе с персонажем предпоследнего Разговора (№ 29.9) предоставить читателю знакомиться с этой книгой без всяких предисловий.
Михаил Мейлах
…Я посягнул на понятия, на исходные обобщения, что до меня никто не делал. Этим я пропел как бы поэтическую критику разума — более основательную, чем та, отвлечённая. Я усумнился, что, например, дом, дача и башня связываются и объединяются понятием здание. Может быть, плечо надо связывать с четыре. Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал. И я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то значит разум не понимает мира.
А. ВведенскийПроизведения 1938-1941
Ёлка у Ивановых*
Действующие лица:
Петя Перов — годовалый мальчик
Нина Серова — восьмилетняя девочка
Варя Петрова — семнадцатилетняя девочка
Володя Комаров— двадцатипятилетний мальчик
Соня Острова — тридцатидвухлетняя девочка
Миша Пестров — семидесятишестилетний мальчик
Дуня Шустрова — восьмидесятидвухлетняя девочка
Пузырева — мать
Пузырев — отец
Собака Вера
Гробовщик
Горничные, повара, солдаты, учителя латинского и греческого языка.
Действие происходит в 90-х годах.
Действие I
Картина первая
На первой картине нарисована ванна. Под сочельник дети купаются. Стоит и комод. Справа от двери повара режут кур и режут поросят. Няньки, няньки, няньки моют детей. Все дети сидят в одной большой ванне, а Петя Перов годовалый мальчик купается в тазу, стоящем прямо против двери. На стене слева от двери висят часы. На них 9 часов вечера.
Годовалый мальчик Петя Перов. Будет елка? Будет. А вдруг не будет. Вдруг я умру.
Нянька (мрачная как скунс). Мойся, Петя Перов. Намыль себе уши и шею. Ведь ты еще не умеешь говорить.
Петя Перов. Я умею говорить мыслями. Я умею плакать. Я умею смеяться. Что ты хочешь?
Варя Петрова (девочка 17 лет). Володя потри мне спину. Знает Бог на ней вырос мох. Как ты думаешь?
Володя Комаров (мальчик 25 лет). Я ничего не думаю. Я обжег себе живот.
Миша Пестров (мальчик 76 лет). Теперь у тебя будет клякса. Которую, я знаю, не вывести ничем и никогда.
Соня Острова (девочка 32 лет). Вечно ты, Миша, говоришь неправильно. Посмотри лучше, какая у меня сделалась грудь.
Дуня Шустрова (девочка 82 лет). Опять хвастаешься. То ягодицами хвасталась, а теперь грудью. Побоялась бы Бога.
Соня Острова (девочка 32 лет. Поникает от горя, как взрослый малороссийский человек). Я обижена на тебя. Дура, идиотка, блядь.
Нянька (замахиваясь топором как секирой). Сонька, если ты будешь ругаться, я скажу отцу-матери, я зарублю тебя топором.
Петя Перов (мальчик 1 года). И ты почувствуешь на краткий миг, как разорвется твоя кожа и как брызнет кровь. А что ты почувствуешь дальше, нам неизвестно.
Нина Серова (девочка 8 лет). Сонечка, эта нянька сумасшедшая или преступница. Она все может. Зачем ее только к нам взяли.