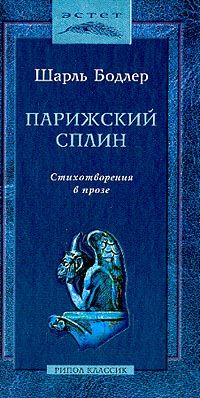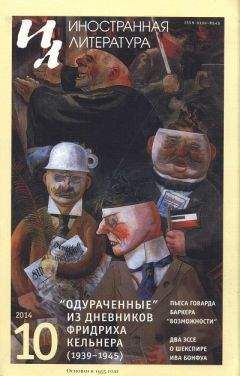Шарль Бодлер - Парижский сплин. Стихотворения в прозе
Я охотно верю, что Государь был немало огорчен, обнаружив своего любимого комедианта среди заговорщиков. Государь был не хуже и не лучше любого другого, но крайне обостренная восприимчивость зачастую делала его более жестоким и деспотичным, чем его собратья. Страстный поклонник изящных искусств, коих, впрочем, он считался великолепным знатоком, — он был воистину ненасытен в наслаждениях. Вполне безразличный равно к людям и к их морали, по натуре своей истинный художник, он не знал врага более страшного, чем Скука, и те невероятные усилия, которые он предпринимал, чтобы спастись от этого мирового деспота или одолеть его, могли бы снискать ему со стороны сурового историка эпитет «чудовища», если бы в его владениях позволено было писать о чем-то помимо того, что способно вызвать удовольствие или удивление, — которое тоже есть не что иное, как одна из наиболее утонченных форм удовольствия. Самым большим несчастьем Государя было то, что он не имел театра, достаточно вместительного для своего гения. Существуют юные Нероны, которые задыхаются в слишком узких рамках, и в последующие века их имена и благие намерения оказываются забытыми. Недальновидное Провидение дало этому владыке способности более обширные, чем его владения.
Внезапно разнесся слух, что правитель собирается помиловать всех заговорщиков; источником этого слуха явилось объявление о грандиозном спектакле, где Фанчулле должен был сыграть одну из своих наиболее значительных и удачных ролей и где, как поговаривали, будут присутствовать и осужденные дворяне; столь явно благородный жест свидетельствовал, по мнению недалеких людей, о великодушных намерениях оскорбленного Государя.
От человека, склонного по природе своей и по собственному желанию к столь необычным поступкам, можно ожидать всего — даже добродетели, даже милосердия, особенно если он рассчитывает найти в них неожиданное развлечение. Но для тех, кто, подобно мне, смог дальше остальных проникнуть в глубины этой странной и больной души, гораздо более вероятно, что Государь захотел оценить по достоинству актерский талант человека, приговоренного к смерти. Он захотел воспользоваться случаем, чтобы провести психологический опыт, представляющий для него интерес государственной важности, и проверить, до каких пределов обычные способности актера могут быть изменены или обогащены под влиянием той чрезвычайной ситуации, в которой он находится; так могло ли это намерение, зародившееся в его душе, хотя бы отдаленно походить на проявление милосердия? Это вопрос, на который мы никогда не получим ответа.
Наконец великий день настал, и маленький двор встретил его со всей подобающей торжественностью. Трудно было, не увидев собственными глазами, представить всю роскошь и великолепие, которые смогло продемонстрировать высшее сословие небольшого государства, столь ограниченного в средствах, для того чтобы устроить истинное празднество. Оно было истинным вдвойне прежде всего из-за чудодейственной силы окружающего блеска, а также из-за того отчасти нравственного, отчасти мистического интереса, который вызывало ожидаемое зрелище.
Фанчулле всегда особенно удавались немые или почти бессловесные роли, которые зачастую оказываются главными в тех феерических драмах, что представляют нам аллегорически мистерию жизни. Он взошел на сцену легко и совершенно непринужденно, что лишь усилило среди благородной публики склонность к снисходительности и прощению.
Когда об актере говорят: «Вот замечательный актер!» — то этим подразумевают, что за персонажем все еще видится исполнитель, то есть его искусство, усилие, воля. Однако если бы актеру удалось стать по отношению к своему персонажу тем, чем самые лучшие античные статуи, которые таинственным образом ожили бы и начали дышать, двигаться и смотреть, стали бы по отношению к самой великой и смутной идее Красоты, — это был бы случай уникальный и почти невероятный. Фанчулле в тот вечер явился совершенным воплощением этой идеи, которое невозможно было не признать живым, существующим, реальным. Этот шут двигался, жестикулировал, смеялся и плакал, содрогался в конвульсиях, и вокруг его головы словно сиял несокрушимый ореол, невидимый для публики, но только не для меня, — ореол, где, словно в странной амальгаме, соединились лучи Искусства и слава Мученичества. В игре Фанчулле, благодаря бог весть какому особенному дару, присутствовало нечто божественное и сверхъестественное, что проявлялось даже в его самых невероятных шутовских выходках. Перо мое дрожит, и слезы неизбытого волнения подступают к глазам, когда я пытаюсь описать вам этот памятный вечер. Фанчулле доказал мне, со всей убедительностью и неопровержимостью, что опьянение Искусством способно более, чем всякое другое, скрыть от наших глаз смертельную бездну, что гений может разыгрывать комедию на краю могилы, и его упоение игрой застилает от него это зрелище, потому что в том волшебном мире, где он оказался, нет места смерти и разрушению.
Вся эта публика, какой бы пресыщенной и легкомысленной она ни была, вскоре испытала на себе могущественную власть Гения. Никто не помышлял больше о смерти, скорби и мучениях. Каждый отдался во власть того бесконечного наслаждения, которое дает созерцание живого произведения искусства. Взрывы восторга и восхищения множество раз потрясали своды зала, подобно непрерывным громовым раскатам. Сам Государь, захваченный необыкновенным зрелищем, присоединил свои аплодисменты к рукоплесканиям придворных.
Однако от внимательного наблюдателя не укрылось бы, что к восхищению Государя примешивалось и нечто иное. Чувствовал ли он себя побежденным в своем деспотическом могуществе? посрамленным в своем искусстве наводить ужас на сердца и холодом сковывать души? обманутым в своих ожиданиях и осмеянным в своих предвидениях? Такие догадки, не вполне подтвержденные, но и не полностью безосновательные, приходили мне на ум, когда я смотрел на лицо Государя, которое все больше бледнело по сравнению со своей обычной бледностью, — так свежевыпавший снег застилает тот, что выпал прежде. Его губы сжимались все сильнее и сильнее, а глаза вспыхивали тем внутренним огнем, что говорил о зависти и злобе, даже когда Государь открыто рукоплескал таланту своего старого друга, этого необычного шута, который так хорошо вышучивал смерть. И вот я увидел, как Его Высочество наклонился к маленькому пажу, который стоял возле его кресла, и прошептал ему что-то на ухо. Озорное личико прелестного мальчугана просияло в улыбке; и он быстро покинул ложу Государя, словно торопясь исполнить некое срочное поручение.
Несколько минут спустя раздался резкий продолжительный свист, прервавший Фанчулле в одно из его самых блестящих мгновений, — свист, невыносимый одинаково для сердца и для слуха; и из того конца зала, откуда раздался этот взрыв неожиданного глумления, какой-то ребенок стремительно выбежал в коридор, пытаясь заглушить свой смех.
Фанчулле, потрясенный, пробужденный от своих грез, сперва закрыл глаза, потом, почти сразу же, снова раскрыл их так широко, что они показались непомерно огромными, затем открыл рот, словно для судорожного вдоха, покачнулся вперед, потом назад и замертво рухнул на подмостки.
Этот свист, подобный свисту топора в воздухе, — послужил ли он в действительности избавлением от иной казни? Сам Государь мог ли предвидеть всю убийственную силу своей выдумки? В этом стоит усомниться. Сожалел ли он о своем любимом, неподражаемом Фанчулле? Вполне справедливо в это поверить.
Для остальных заговорщиков это было последнее комедийное представление. Все они были казнены той же ночью.
С тех пор очень многие актеры, по достоинству ценимые в разных странах, приезжали играть ко двору ***, но ни один из них не смог ни сравниться с блистательным талантом Фанчулле, ни удостоиться той же, что и он, милости.
XXVIII. Фальшивая монета
Когда мы немного отошли от табачной лавки, мой друг произвел тщательный разбор своих денег: в левый карман жилета он опустил мелкие золотые монетки, в правый — мелкие серебряные; в левый карман брюк — увесистую горсть медяков; и, наконец, в правый — серебряную монету в два франка, которую он перед этим внимательно осмотрел.
«Странно, что за мелочность?» — подумал я.
По дороге мы встретили бедняка, который дрожащей рукой протянул нам свой картуз. Ничто не способно взволновать меня сильнее, чем немое красноречие этих молящих глаз, в которых человек, умеющий чувствовать, прочтет столько смирения, столько укора. Что-то подобное такому глубокому сложному чувству можно увидеть в слезящихся глазах собаки, когда ее бьют.
Милостыня моего друга была гораздо более щедрой, чем моя, и я сказал ему:
— Вы правы: после радости удивляться нет большей радости, чем самому вызывать удивление.