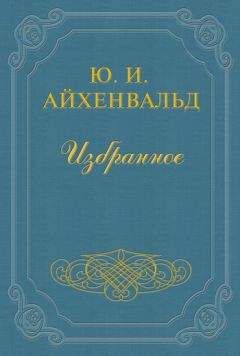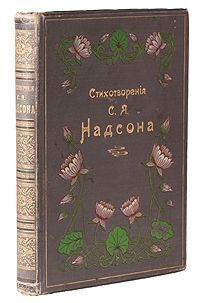Семен Надсон - Полное собрание стихотворений
В стремлении своем к всеобщей любви и примирению противоречий Надсон не был одинок. В пору поисков, растерянности и недоумения, порожденных неудачами революционной борьбы семидесятых годов, это стремление в разных формах давало себя знать у многих больших и малых современников Надсона. В этом была их бесспорная слабость, но это была слабость демократического сознания восьмидесятых годов. К «непротивлению» звал Лев Толстой, и это соединялось у него с непосредственным демократическим негодованием против насилия и угнетения. Как известно, идеи, близкие к толстовским, возникли независимо от Толстого и даже раньше, чем у него, в народнических кругах (Чайковский, Маликов). В. М. Гаршин, с болезненной остротой выступавший против мирового зла, против «красного цветка», вобравшего в себя «всю невинно пролитую кровь, все слезы, всю желчь человечества», отдал дань «доктрине совести и всеобщей любви».
Знаменательно, что даже П. Ф. Якубович, поэт-народоволец, активный революционер, поплатившийся за свою деятельность долгими годами каторги, отразил в своей лирике настроения, близкие и родственные надсоновским. Он писал о «больной душе», о том, что его стихи «создавались из слез и из крови сердечной» («Эти песни гирляндою роз…», 1883), о противоречии между героическими стремлениями и потребностью личного счастья («В час веселья и шумной забавы…», 1880), он признавался в том, что его душа «черной злобой устала дышать» («Успокоение», 1880). В одном из самых задушевных своих стихотворений «Забытый друг» (1886), имеющем ярко выраженный автобиографический характер, он рассказывает о «холодных и горьких сомнениях», пережитых им за стенами тюрьмы. Муза спасает тоскующего поэта, дает ему пережить «блаженную ночь воскресенья» и более уже никогда не покидает его. Психологическая драма заканчивается, и финал ее близко напоминает коллизии надсоновской лирики:
С тех пор я уж не был покинут и сир.
И часто мы громы с небес призывали!
Но чаще… любовь призывали и мир,
И чаще врагов мы прощали…[20]
Другой современник Надсона, В. Г. Короленко, отправляясь в ссылку за отказ от присяги Александру III, заносил в свою записную книжку овладевшую его воображением фантастическую картину, в которой хотел представить Желябова и Александра II «понявшими и примиренными».«…Есть где-то примирение», – думал он, и ему чудилось, что «оба – жертва и убийца – ищут этого примирения, обозревая свою темную родину».[21] Впоследствии Короленко преодолел эти настроения, но возникли они, разумеется, не случайно – для него самого и для людей его круга. Не случайно возникли они и у Надсона, вступив в противоречивое, но органическое соединение с противоположным строем чувств и настроений – стремлением преодолеть бессилие, жаждой борьбы и жертвенного подвига, восхищением мужеством и стойкостью передовых людей времени.
Это противоречие и составило главное содержание тех патетических монологов, в которых раскрывалась личность Надсона и его главного героя.
10Для многих современников Надсона, склонных, как и он, к публичным «исповедям», к самораскрытию личности и самоанализу, в то же время характерно было стремление преодолеть субъективность творчества и выйти за пределы своего «я» на широкий простор объективного, эпического искусства. В восьмидесятых годах Н. К. Михайловский убеждал Г. И. Успенского перейти от очерков, проникнутых своеобразным лиризмом «больной совести», к большому жанру романа. В. М. Гаршин, близкий Надсону по духу, писал в 1885 году: «Я чувствую, что мне надо переучиваться сначала. Для меня прошло время страшных, отрывочных воплей, каких-то „стихов в прозе“, какими я до сих пор занимался: материалу у меня довольно, и надо изображать не свое я, а большой внешний мир».[22]
Такая же потребность была, очевидно, и у Надсона. Он также пробовал свои силы в другой манере творчества и написал несколько стихотворений и поэм, в которых пытался изобразить не свое я, а внешний мир, хотя бы даже и небольшой. Сюда относятся его поэмы «Боярин Брянский», незаконченная поэма в народном духе «Святитель», действие которой должно было развертываться вскоре после войны 1812 года, незавершенная драматическая сцена «В деревне», разрабатывающая тему отцов и детей в новом повороте, характерном для восьмидесятых годов; это едва намеченный, но ясный по замыслу диалог разочарованного, тоскующего юноши и его отца, безуспешно пытающегося пробудить в нем утраченную любовь к красоте мира. К этим наброскам относится и начало стихотворного рассказа – от лица пожилой женщины – о некоем молодом человеке, больном, угрюмом и бледном, приехавшем в деревню, чтобы отойти душой от бед и тяжестей столичной жизни («Он к нам переехал прошедшей весною…»). Характерно, однако, что это все наброски, отрывки, пробы пера, по-видимому не удовлетворявшие автора и потому брошенные им. Из стихотворных опытов этого рода при жизни автора увидело свет только одно произведение – «Страничка прошлого (Из одного письма)», выделяющееся на общем фоне лирики Надсона полной объективностью тона, даже с оттенком мягкого юмора. Речь идет здесь о воспоминаниях отрочества, о ранней любви, стыдливой и неразделенной. Возникает образ студента, чья судьба – «нужда да тяжкий крест лишений», образ, также нарисованный объективно, без патетики, без риторики и декламации. Но любопытно, что в другом стихотворении, написанном в то же время (1885) и на близкую тему («Не принесет, дитя, покоя и забвенья…»), у Надсона появляется обычный для него монолог с патетическими фразами и трагическими словами, произносимыми как будто тем же студентом, чей образ в «Страничке прошлого» был подан объективно. В 1885 году Надсон публикует и такие необычные для него стихотворения, как «Жалко стройных кипарисов…» и «Закралась в угол мой тайком…», стихотворения легкие и изящные, без рефлектирования, без пессимистических тирад, без «скорби» и «слез». В первом из них изображено море – не грозная, негодующая стихия, как обычно у Надсона, – а мирное, смеющееся в блеске солнца,
С белым парусом в тумане,
С белой чайкой, в даль летящей,
С белой пеною, каймою
Вдоль по берегу лежащей.
В стихотворении «Закралась в угол мой тайком...» появляются столь редкие у Надсона бытовые черты; здесь нет условных символов и аллегорий. Не без психологической тонкости передано здесь настроение возникающей любви; герой стихотворения – поэт, но это не «пророк» и не «певец», а просто литератор, его комната не называется «кельей», как в иных стихотворениях Надсона; обстановка вполне бытовая («Открыты двери на балкон, Газетный лист к кровати свеян» и т. д.). Героиня не имеет ничего общего с теми условно возвышенными женскими образами, которые обычно рисовал Надсон в своих любовных стихотворениях. Это просто шаловливая девушка, затеявшая веселую любовную игру:
Закралась в угол мой тайком,
Мои бумаги раскидала,
Тут росчерк сделала пером,
Там чей-то профиль набросала…
Достаточно сравнить эту лирическую миниатюру с широко известным, хотя, впрочем, далеко не лучшим стихотворением Надсона «Только утро любви хорошо…», чтобы увидеть, насколько плодотворны были его новые поиски. Там эффектные, но безжизненные аллегории, декламация, стандартная образность, безвкусная лексика: «светлый храм», «сладострастный гарем», «греховно пылающий жрец», «праздник чувства» и многое иное в том же стиле. Здесь реальные черты быта, живые образы, житейские настроения, чувство меры и такта.
И все-таки подобные произведения у Надсона единичны, и не они прославили его имя. Поиски новой манеры, как бы симптоматичны они ни были, не получили своего завершения.
Имя Надсона и его поэтический облик в сознании его современников и последующих поколений связались с теми стихотворениями, в которых звучали жалобы, возгласы и призывы, отражавшие недовольство настоящим и стремление к всеобщему счастью.
Все ценное и живое, что было в этих настроениях и надеждах, иной раз смутных и неясных, но всегда искренних, сохранило свое значение надолго и обеспечило поэзии Надсона широкую популярность на много десятилетий.
Стихотворения
На заре*
Заревом заката даль небес объята,
Речка голубая блещет, как в огне;
Нежными цветами убраны богато,
Тучки утопают в ясной вышине.
Кое-где, мерцая бледными лучами,
Звездочки-шалуньи в небесах горят.
Лес, облитый светом, не дрогнет ветвями,
И в вечерней неге мирно нивы спят.
Только ты не знаешь неги и покоя,
Грудь моя больная, полная тоской.
Что ж тебя волнует? Грустное ль былое,
Иль надежд разбитых безотрадный рой?
Заползли ль змеею злобные сомненья,
Отравили веру в счастье и людей,
Страсти ли мятежной грезы и волненья
Вспыхнули нежданно в глубине твоей?
Иль, в борьбе с судьбою погубивши силы,
Ты уж тяготишься этою борьбой
И, забыв надежды, мрачно ждешь могилы,
С малодушной грустью, с желчною тоской?
Полно, успокойся, сбрось печали бремя:
Не пройдет бесплодно тяжкая борьба,
И зарею ясной запылает время,
Время светлой мысли, правды и труда.
Апрель 1878